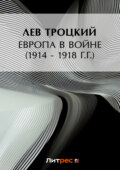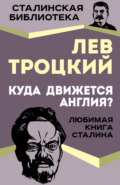Лев Троцкий
История русской революции. Том I
Патриотическая пресса 1917 года, не только кадетская, но и социалистическая, была неутомима в противопоставлении русских солдат, дезертиров и трусов, героическим батальонам Великой французской революции. Эти противопоставления свидетельствуют не только о непонимании диалектики революционного процесса, но и о круглом историческом невежестве.
Замечательные полководцы французской революции и империи начинали, сплошь да рядом, как нарушители дисциплины, как дезорганизаторы; Милюков сказал бы – как большевики. Будущий маршал Даву, в качестве поручика Д'Аву, в течение долгих месяцев 1789–1790 годов разлагал «нормальную» дисциплину в гарнизоне Эсдена, изгоняя командный состав. По всей Франции шел до середины 1790 года процесс полного распада старой армии. Солдаты Венсенского полка принуждали своих офицеров есть вместе с ними. Флот изгонял своих офицеров. 20 полков подвергали свой командный состав разным видам насилия. В Нанси три полка ввергли высших офицеров в тюрьму. Начиная с 1790 года вожди французской революции не устают повторять по поводу военных эксцессов: «Виновна исполнительная власть, которая не смещает офицеров, враждебных революции». Замечательно, что за роспуск старого офицерского корпуса выступали как Мирабо, так и Робеспьер. Первый стремился поскорее установить твердую дисциплину. Второй хотел разоружить контрреволюцию. Но оба понимали, что старой армии не жить.
Правда, русская революция, в отличие от французской, произошла во время войны. Но отсюда вовсе не вытекает изъятия из отмеченного Энгельсом исторического закона. Наоборот, условия затяжной и несчастной войны могли только ускорить и обострить процесс революционного распада армии. Несчастное и преступное наступление демократии сделало остальное. Теперь солдаты говорили уже поголовно: «Довольно проливать кровь! Зачем свобода и земля, если нас не будет?» Когда просвещенные пацифисты пытаются рационалистическими доводами упразднить войну, то они просто смешны. Когда же сами вооруженные массы приводят в движение против войны доводы разума, то это значит, что войне приходит конец.
КРЕСТЬЯНСТВО
Подпочву революции составлял аграрный вопрос;
В архаических земельных порядках, непосредственно вышедших из крепостного права, в традиционной власти помещика, в тесных связях между помещиком, местной администрацией и сословным земством коренились наиболее варварские явления русской жизни, увенчавшиеся распутинской монархией. Мужик, служивший опорой вековой азиатчине, являлся вместе с тем и первой из ее жертв.
В первые недели после февральского переворота деревня оставалась почти недвижной. Наиболее активные возрасты находились на фронте. Старшие поколения, оставшиеся дома, слишком хорошо помнили, как революция кончается карательными экспедициями. Деревня молчала, поэтому и город молчал о деревне. Но призрак крестьянской войны уже с дней марта висел над помещичьими гнездами. Из наиболее дворянских, т. е. отсталых и реакционных, губерний крик о помощи раздался еще прежде, чем обнаружилась действительная опасность. Либералы чутко отражали страхи помещиков. Соглашатели отражали настроения либералов. «Форсировать аграрную проблему в ближайшие недели, – резонерствовал после переворота „левый“ Суханов, – вредно, и в этом нет ни малейшей нужды». Точно так же, как мы знаем, Суханов считал, что вредно форсировать вопрос о мире и о 8-часовом рабочем дне. Прятаться от трудностей – проще. К тому же помещики пугали, что потрясение земельных отношений вредно отразится на засеве полей и продовольствии городов. Исполнительный комитет посылал на места телеграммы, рекомендовавшие «не увлекаться аграрными делами в ущерб продовольствию городов».
Во многих местах помещики, напуганные революцией, воздерживались от весеннего сева. При тяжелом продовольственном положении страны пустующие земли, казалось, сами призывали нового хозяина. Крестьянство глухо ворочалось. Не надеясь на новую власть, помещики приступили к спешной ликвидации своих имений. Кулаки стали усиленно скупать помещичьи земли, рассчитывая, что принудительная экспроприация на них как на крестьян не распространится. Многие земельные сделки имели заведомо фиктивный характер. Предполагалось, что частные владения ниже известной нормы будут пощажены; ввиду этого помещики искусственно делили свои владения на мелкие участки, создавая подставных собственников. Нередко земли переводились на иностранцев из числа граждан союзных или нейтральных стран. Кулацкая спекуляция и помещичьи плутни угрожали не оставить ничего от земельного фонда к моменту созыва Учредительного собрания.
Деревня видела эти маневры. Отсюда требование: приостановить декретом всякие земельные сделки. Крестьянские ходоки потянулись в города к новому начальству искать земли и правды. Министрам не раз случалось после возвышенных прений или оваций наталкиваться у выхода на серые фигуры крестьянских депутатов. Суханов рассказывает, как один из ходоков со слезами умолял граждан министров издать закон, охраняющий земельный фонд от распродажи. «Его нетерпеливо перебил возбужденный и бледный Керенский: я сказал, что будет сделано, значит, так и будет… И нечего смотреть на меня подозрительными глазами». Суханов, присутствовавший при этой сцене, присовокупляет: «Я передаю буквально, – и Керенский был прав: подозрительными глазами смотрели мужички на знаменитого народного министра и вождя». В этом коротком диалоге между крестьянином, который еще просит, но уже не доверяет, и между радикальным министром, который отмахивается от крестьянского недоверия, заложена неизбежность крушения февральского режима.
Положение о земельных комитетах как органах подготовки аграрной реформы издано было первым министром земледелия, кадетом Шингаревым. Главный земельный комитет во главе с либерально-бюрократическим профессором Постниковым состоял главным образом из народников, которые больше всего боялись оказаться менее умеренными, чем их председатель. Местные земельные комитеты были учреждены в губерниях, уездах и волостях. Если советы, довольно туго прививавшиеся в деревне, считались частными органами, то земельные комитеты имели правительственный характер. Чем неопределеннее были, по положению, их функции, тем труднее им оказывалось противостоять натиску крестьянства. Чем ниже был комитет в общей иерархии, чем ближе к земле, тем скорее он становился орудием крестьянского движения.
К концу марта начинают притекать в столицу первые тревожные сведения о выступлении на сцену крестьян. Новгородский комиссар телеграфирует о беспорядках, производимых неким прапорщиком Панасюком, о «безосновательных арестах помещиков» и пр. В Тамбовской губернии толпой крестьян во главе с несколькими отпускными солдатами разграблена помещичья усадьба. Первые сообщения, несомненно, преувеличены, помещики в своих жалобах явно раздувают столкновения и забегают вперед. Но что не подлежит сомнению, так это руководящее участие в крестьянском движении солдат, которые приносят с фронта и из городских гарнизонов дух инициативы.
Один из волостных комитетов Харьковской губернии постановил 5 апреля произвести у землевладельцев обыски для отобрания оружия. Это уж явное предчувствие гражданской войны. Возникновение волнений в Скопинском уезде Рязанской губернии комиссар объясняет постановлением Исполнительного комитета соседнего уезда о принудительной аренде крестьянами помещичьих земель. «Агитация студентов за успокоение до Учредительного собрания успеха не имеет». Так мы узнаем, что «студенты», призывавшие крестьян в эпоху первой революции к аграрному террору – такова была в то время тактика эсеров, – в 1917 году, наоборот, проповедуют законность и спокойствие, правда безуспешно.
Комиссар Симбирской губернии рисует картину более развернутого крестьянского движения: волостные и сельские комитеты – о них еще будет сказано впереди – арестовывают помещиков, высылают их из губернии, снимают рабочих с помещичьих полей, захватывают землю, устанавливают произвольно арендную плату. «Посылаемые Исполнительным комитетом делегаты становятся на сторону крестьян». Одновременно начинается движение общинников против отрубников, т. е. крепких крестьян, выделившихся на самостоятельные участки на основании столыпинского закона 9 ноября 1906 года «Положение губернии угрожает засеву полей». Симбирский губернский комиссар уже в апреле не видит другого выхода, как немедленное объявление земли национальной собственностью, с тем чтобы способы землепользования были впоследствии определены Учредительным собранием.
Из Каширского уезда, совсем близко под Москвой, идут жалобы на то, что Исполнительный комитет возбуждает население к безвозмездному захвату церковных, монастырских и помещичьих земель. В Курской губернии крестьяне снимают с работы в имениях военнопленных и даже заключают их в местную тюрьму. После крестьянских съездов крестьяне в Пензенской губернии, склонные к буквальному пониманию эсеровских резолюций о земле и воле, стали нарушать недавно заключенные договоры с землевладельцами. Одновременно они повели наступление на новые органы власти. «При образовании волостных и уездных исполнительных комитетов, в марте месяце, в состав их вошла в большинстве интеллигенция; но затем – доносит пензенский комиссар – стали раздаваться голоса против нее, и уже в середине апреля повсеместно в комитетах состав был исключительно из крестьян, тенденция которых относительно земли явно незакономерна».
Группа землевладельцев соседней Казанской губернии жаловалась Временному правительству на невозможность вести хозяйство, так как крестьяне сводят рабочих, отбирают семена, во многих местах уносят все имущество из усадеб, не позволяют помещику рубить дрова в своем лесу, угрожают насилием и смертью. «Суда нет, все делают что хотят, благоразумная часть терроризирована». Казанские помещики уже знают, кто повинен в анархии: «распоряжения Временного правительства в деревнях неизвестны, но зато листки большевиков очень распространены».
Между тем в распоряжениях Временного правительства недостатка не было: Телеграммой 20 марта князь Львов предложил комиссарам создавать волостные комитеты как органы местной власти, причем к работе этих комитетов рекомендовал «привлекать местных землевладельцев и все интеллигентные силы деревни». Весь государственный строй предполагалось организовать по типу системы примирительных камер. Комиссарам, однако, вскоре уже пришлось плакаться на вытеснение «интеллигентных сил»: мужик явно не доверял уездным и волостным Керенским. 3 апреля заместитель князя Львова, князь Урусов, – министерство внутренних дел, как видим, было высокотитулованным – предписывает не допускать никакого своеволия и в особенности ограждать «свободу каждого владельца распоряжаться своей землей», т. е. самую сладкую из всех свобод. Через десять дней считает нужным потревожить себя сам князь Львов, предписывая комиссарам «всей силой закона прекращать проявления всякого насилия и грабежа». Еще через два дня князь Урусов предписывает губернскому комиссару «принять меры к ограждению конских заводов от самоуправных действий, разъясняя крестьянам»… и т. д. 18 апреля князь Урусов беспокоится по поводу того, что военнопленные на работе у помещиков начинают предъявлять непомерные требования, и предписывает комиссарам подвергать дерзновенных взысканиям на основании прав, предоставленных ранее царским губернаторам. Циркуляры, предписания, телеграфные распоряжения текут сверху вниз непрерывным дождем. 12 мая князь Львов перечисляет в новой телеграмме неправомерные действия, которые «не прекращаются во всей стране»: самовольные аресты, обыски, устранение от должностей, от заведования имуществами, от управления фабриками и заводами; разгромы имуществ, грабежи, бесчинства; насилия над должностными лицами; обложение населения налогами; возбуждение одной части населения против другой и пр. и пр. «Все подобного рода действия должны почитаться явно неправомерными, в некоторых случаях даже анархическими…» Квалификация не очень ясна, но ясен вывод: «принять самые решительные меры». Губернские комиссары решительно спускали циркуляр в уезды, уездные нажимали на волостные комитеты, и все вместе обнаруживали свое бессилие перед мужиком.
Почти повсеместно в дело вмешиваются ближайшие воинские части. Чаще всего им принадлежит почин. Движение принимает крайне разнообразные формы в зависимости от местных условий и от степени обострения борьбы. В Сибири, где помещиков нет, крестьяне прибирают к рукам церковные и монастырские земли. Впрочем, духовенству приходится туго и в других частях страны. В благочестивой Смоленской губернии попы и монахи под влиянием прибывших с фронта солдат подвергаются арестам. Местные органы оказываются часто вынуждены идти дальше, чем хотели бы, – только бы предупредить принятие крестьянами несравненно более радикальных мер. Уездный Исполнительный комитет Самарской губернии назначил в начале мая общественную опеку над имением графа Орлова-Давыдова, ограждая его таким образом от крестьян. Так как обещанный Керенским декрет о запрещении земельных сделок так и не появлялся, то крестьяне начали своими средствами препятствовать распродаже имений, не допуская производить обмер земельных площадей. Отнятие у помещиков оружия, даже охотничьего, распространяется все шире. Крестьяне Минской губернии, жалуется комиссар, «принимают резолюции крестьянского съезда, как закон». Да и как понимать их иначе? Ведь эти съезды являются единственной реальной властью на местах. Так раскрывается великое недоразумение между эсеровской интеллигенцией, захлебывающейся в словах, и крестьянством, которое требует дел.
К концу мая заколыхалась далекая азиатская степь. Киргизы, у которых цари отнимали лучшие земли в пользу своих слуг, поднимаются теперь против помещиков, предлагая им скорее ликвидировать свои воровские владения. «Подобный взгляд крепнет в степи», – доносит акмолинский комиссар.
На противоположном краю страны, в Лифляндской губернии, уездный Исполнительный комитет послал комиссию для расследования дела о разгроме имения барона Шталь фон Гольштейна. Комиссия признала беспорядки незначительными, пребывание барона в уезде вредным для спокойствия и постановила: препроводить его вместе с баронессой в распоряжение Временного правительства. Так возник один из бесчисленных конфликтов местной власти с центральной, эсеров внизу с эсерами наверху.
Донесение 27 мая из Павлоградского уезда Екатеринославской губернии рисует почти идиллические порядки: члены Земельного комитета разъясняют населению все недоразумения и таким образом «предупреждают всякого рода эксцессы». Увы, эта идиллия продлится лишь короткое число недель.
Настоятель одного из Костромских монастырей горько жалуется в конце мая на реквизицию крестьянами трети рогатого монастырского скота. Почтенному монаху следовало бы быть скромнее: скоро ему придется проститься и с остальными двумя третями.
В Курской губернии начались преследования отрубников, отказывавшихся вернуться в общину. Перед великим земельным переворотом, перед черным переделом, крестьянство хочет выступать как одно целое. Внутренние перегородки могут стать помехой. Мир должен выступать как один человек. Борьба за помещичью землю сопровождается поэтому насилиями над хуторянами, т. е. земельными индивидуалистами.
В последний день мая арестовали в Пермской губернии солдата Самойлова, который призывал к неплатежу податей. Скоро солдат Самойлов будет арестовывать других. На крестном ходе в одной из деревень Харьковской губернии крестьянин Гриценко топором изрубил на глазах всей деревни чтимую икону св. Николая. Так поднимаются все виды протеста и превращаются в действия.
Морской офицер и помещик дает в анонимных «Записках белогвардейца» интересную картину эволюции деревни в первые месяцы после переворота. На все посты «выбирались почти везде люди из буржуазных слоев. Все стремились лишь к одному – удержать порядок». Крестьяне, правда, выдвигали требование на землю, но в первые два-три месяца без насилий. Наоборот, можно было постоянно услышать фразы, что «мы грабить не хотим, а желаем получить по согласию» и т. д. В этих успокоительных заверениях уху лейтенанта, однако, слышалась «скрытая угроза». И действительно, если крестьянство в первый период и не прибегало еще к насилиям, то по отношению к так называемым интеллигентным силам «оно сразу стало проявлять свое неуважение». Полувыжидательное настроение продолжалось, по словам белогвардейца, до мая – июня, «после чего стал заметен резкий поворот, появилась тенденция спорить с губернскими установлениями, вершить дела по своему усмотрению…» Другими словами, крестьянство предоставило Февральской революции приблизительно трехмесячную отсрочку по эсеровским векселям, после чего начало прибегать к самостоятельным взысканиям.
Примкнувший к большевикам солдат Чиненов дважды ездил из Москвы к себе в Орловскую губернию после переворота. В мае в волости господствовали эсеры. Мужики во многих местах еще платили помещикам арендную плату. Чиненов организовал большевистскую ячейку из солдат, батраков и малоземельных. Ячейка проповедовала прекращение уплаты аренды и наделение землей безземельных. Немедленно же взяли на учет помещичьи луга, поделили между деревнями и скосили. «Эсеры, сидевшие в волостном комитете, кричали о незаконности наших действий, но от своей доли сена не отказывались». Так как сельские представители из страха ответственности слагали с себя обязанности, то крестьяне выбирали новых, более решительных. Это далеко не всегда были большевики. Своим непосредственным напором крестьяне вносили расчленение в эсеровскую партию, отделяя революционно настроенные элементы от чиновников и карьеристов. Скосив барское сено, мужики взялись за пар и стали делить землю под озимое. Большевистская ячейка решила осмотреть помещичьи амбары и отправить хлебные запасы в голодающий центр. Постановления ячейки выполнялись, потому что совпадали с настроениями крестьян. Чиненов привозил с собой на родину большевистскую литературу, о которой там до него не имели представления. «Местная интеллигенция и эсеры распространяли слух, что я привожу с собою очень много германского золота и подкупаю крестьян». Одни и те же процессы развертываются в разных масштабах. В волости были свои Милюковы, свои Керенские и – свои Ленины.
В Смоленской губернии влияние эсеров стало крепнуть после губернского съезда крестьянских депутатов, высказавшегося, как полагается, за переход земли в руки народа. Крестьяне это решение приняли целиком, но, в отличие от руководителей, всерьез. Отныне число эсеров в деревнях растет непрерывно. «Кто побывал хоть на каком-либо съезде во фракции эсеров, – рассказывает один из местных работников, – тот считал себя или эсером, или чем-то вроде этого». В уездном городе стояло два полка, которые тоже находились под влиянием эсеров. Волостные земельные комитеты начинали запахивать помещичьи земли, косить луга. Губернский комиссар, эсер Ефимов, слал грозные приказы. Деревня недоумевала: ведь тот же самый комиссар говорил на губернском съезде, что крестьяне теперь сами власть и что пользоваться землей может лишь тот, кто обрабатывает ее. Но приходилось считаться с фактами. Распоряжением эсеровского комиссара Ефимова в одном лишь Ельнинском уезде шестнадцать волостных земельных комитетов из семнадцати были в течение ближайших месяцев отданы под суд за захват помещичьих земель. Так своеобразно близился к развязке роман народнической интеллигенции с народом. Большевиков на весь уезд было три-четыре человека, не больше. Влияние их, однако, быстро росло, оттесняя или раскалывая эсеров.
В начале мая созван был в Петрограде Всероссийский съезд. Представительство имело верхушечный и часто случайный характер. Если рабочие и солдатские съезды неизменно отставали от хода событий и от политической эволюции масс, то незачем и говорить, как далеко представительство распыленного крестьянства отстояло от действительных настроений русских деревень. В качестве делегатов выступали, с одной стороны, народнические интеллигенты самого правого крыла, люди, связанные с крестьянством, главным образом, через торговую кооперацию или через воспоминания молодости. Подлинный «народ» был представлен наиболее зажиточными верхами деревни: кулаками, лавочниками, крестьянами-кооператорами. Эсеры господствовали на этом съезде безраздельно, притом в лице своего крайнего правого крыла. Временами, однако, и они останавливались в испуге перед разившим от иных депутатов сочетанием земельной жадности и политического черносотенства. Пред лицом помещичьего землевладения у этого съезда сложилась общая позиция, крайне радикальная: «переход всех земель в общее народное достояние, для уравнительного трудового пользования, без всякого выкупа». Конечно, кулаки понимали уравнительность только в смысле своего равенства с помещиками, но никак не в смысле своего равенства с батраками. Однако этому маленькому недоразумению между фиктивным народническим социализмом и аграрным мужицким демократизмом предстояло еще только вскрыться в дальнейшем.
Министр земледелия Чернов, горевший желанием преподнести пасхальное яичко крестьянскому съезду, тщетно носился с проектом декрета о запрещении земельных сделок. Министр юстиции Переверзев, тоже числившийся чем-то вроде социалиста-революционера, как раз в дни съезда распорядился, чтобы на местах не чинили земельным сделкам никаких препятствий. Крестьянские депутаты по этому поводу пошумели. Но дело не сдвинулось ни на шаг. Временное правительство князя Львова не соглашалось налагать руку на помещичьи земли. Социалисты не хотели налагать руку на Временное правительство. А состав съезда меньше всего был способен найти выход из противоречия между своим аппетитом к земле и своей реакционностью.
20 мая на крестьянском съезде выступал Ленин. «Казалось бы, – говорит Суханов, – Ленин попал в стан крокодилов. Однако мужички слушали внимательно и, вероятно, не без сочувствия, только не смели обнаружить». То же повторилось и в солдатской секции, крайне враждебной к большевикам. Вслед за эсерами и меньшевиками Суханов пытается ленинской тактике в земельном вопросе придать анархическую окраску. Это не так уж далеко от князя Львова, который покушения на помещичьи права склонен был считать анархическими действиями. По этой логике революция в целом равносильна анархии. На самом деле ленинская постановка вопроса была много глубже, чем представлялось его критикам. Органами земельной революции, в первую голову ликвидации помещичьего землевладения, должны были стать советы крестьянских депутатов с подчинением им земельных комитетов. В глазах Ленина советы являлись органами завтрашней государственной власти, притом самой концентрированной, именно революционной диктатуры. Это, во всяком случае, далеко от анархизма, т. е. от теории и практики безвластия. «Мы высказываемся, – говорил Ленин 28 апреля, – за немедленный переход земли к крестьянам с максимальной организованностью. Мы абсолютно против анархических захватов». Почему мы не согласны ждать до Учредительного собрания? «Для нас важен революционный почин, – а закон должен быть его результатом. Если вы будете ждать, пока закон напишется, а сами не разовьете революционной энергии, то у вас не будет ни закона, ни земли». Разве эти простые слова не являются голосом всех революций?
После месяца заседаний крестьянский съезд выбрал, в качестве постоянного учреждения, Исполнительный комитет в составе двух сотен кряжистых сельских мелких буржуа и народников профессорского или торгашеского типа, прикрыв эту компанию сверху декоративными фигурами Брешковской, Чайковского, Веры Фигнер и Керенского. Председателем выбран был эсер Авксентьев, созданный для губернских банкетов, но не для крестьянской войны.
Отныне наиболее важные вопросы рассматривались на объединенных заседаниях двух исполнительных комитетов: рабоче-солдатского и крестьянского. Это сочетание означало чрезвычайное укрепление правого крыла, непосредственно смыкавшегося с кадетами. Во всех случаях, где нужно было нажать на рабочих, обрушиться на большевиков, пригрозить «независимой кронштадтской республике» бичами и скорпионами, двести рук или, вернее, двести кулаков крестьянского Исполкома поднимались как стена. Эти люди вполне согласны были с Милюковым насчет того, что с большевиками надо «покончить». Но насчет помещичьей земли у них были мужицкие, а не либеральные взгляды, и это противопоставляло их буржуазии и Временному правительству.
Не успел крестьянский съезд разъехаться, как посыпались жалобы на то, что его резолюции на местах принимаются всерьез и приводят к отобранию у помещиков земли и инвентаря. Решительно невозможно было вколотить в упрямые мужицкие черепа различие между словом и делом.
Эсеры испуганно ударили отбой. В начале июня на съезде своем в Москве они торжественно осудили всякие самочинные захваты земли: надо ждать Учредительного собрания. Но эта резолюция оказалась бессильной не только приостановить, но и ослабить аграрное движение. Дело чрезвычайно осложнялось еще тем, что в самой эсеровской партии было немалое количество элементов, действительно готовых идти с мужиками против помещиков до конца, причем эти левые эсеры, не решавшиеся еще открыто порвать с партией, помогали мужикам обходить законы или по-своему истолковывать их.
В Казанской губернии, где крестьянское движение приняло особенно бурный размах, левые эсеры самоопределились раньше, чем в других местах. Во главе их стоял Калегаев, будущий нарком земледелия в советском правительстве в период блока большевиков с левыми эсерами. С середины мая начинается в Казанской губернии систематическая передача земель в распоряжение волостных комитетов. Смелее всего эта мера проводится в Спасском уезде, где во главе крестьянских организаций стоял большевик. Губернские власти жалуются в центр на аграрную агитацию, которую ведут большевики, прибывшие из Кронштадта, причем благочестивая монахиня Тамара арестована ими будто бы «за возражения». Из Воронежской губернии комиссар докладывает 2 июня:
«Случаи различных правонарушений и незакономерных действий в губернии с каждым днем учащаются, особенно на аграрной почве». Захваты земли в Пензенской губернии становятся настойчивее. Один из волостных земельных комитетов Калужской губернии отобрал у монастыря половину покоса; по жалобе настоятеля уездный земельный комитет постановил: отобрать покос целиком. Это не частый случай, когда высшая инстанция оказывается радикальнее низшей. Игуменья Мария из Пензенской губернии плачется на захват монастырских владений. «Местные власти бессильны». В Вятской губернии крестьяне наложили запрет на имение Скоропадских, семьи будущего украинского гетмана, и «до разрешения вопроса о земельной собственности» постановили: к лесу не прикасаться, а доходы по имению сдавать в казну. В ряде других мест земельные комитеты не только снизили арендную плату в пять-шесть раз, но и постановили вносить ее не помещикам, а в распоряжение комитетов, впредь до разрешения вопроса Учредительным собранием. Это была не адвокатская, а мужицкая, т. е. серьезная, постановка вопроса о непредрешении земельной реформы до Учредительного собрания. В Саратовской губернии крестьяне, вчера еще только запрещавшие помещикам рубить лес, сегодня стали рубить его сами. Все чаще крестьяне захватывают церковные и монастырские земли, особенно там, где мало помещичьих. В Лифляндии батраки-латыши вместе с солдатами латышского батальона приступили к планомерному захвату баронских имений.
Из Витебской губернии лесопромышленники вопят о том, что мероприятия земельных комитетов разрушают лесопромышленность и препятствуют обслуживать нужды фронта. Не менее бескорыстные патриоты, помещики Полтавской губернии, скорбят о том, что аграрные беспорядки лишают их возможности доставлять продовольствие для армии. Наконец, съезд коннозаводчиков в Москве предупреждает, что крестьянские захваты грозят великими бедствиями отечественной коннице. Тем временем обер-прокурор Синода, тот самый, который называл членов святейшего учреждения «идиотами и мерзавцами», жаловался правительству на то, что в Казанской губернии крестьяне отбирают у монахов не только земли и скот, но и муку, необходимую для просфор. В Петроградской губернии, в двух шагах от столицы, крестьяне изгнали из имения арендатора и начали хозяйничать сами. Недремлющий князь Урусов 2 июня снова телеграфирует во все концы: «Несмотря на ряд моих требований… и пр. и пр. Вновь прошу вас принять самые решительные меры». Князь забывал лишь указать, какие именно.
В то время как по всей стране развертывалась гигантская работа корчевания наиболее глубоких корней средневековья и крепостничества, министр земледелия Чернов собирал в своих канцеляриях материалы для Учредительного собрания. Он намеревался проводить реформу не иначе как на основании точнейших данных земельной и всякой иной статистики и потому сладчайшим голосом убеждал крестьян подождать конца его упражнений. Это не помешало, впрочем, помещикам сбросить селянского министра с поста задолго до того, как он заполнил свои сакраментальные таблицы.
* * *
На основании архивов Временного правительства молодые исследователи подсчитали, что в марте аграрное движение проявилось с большей или меньшей силой только в 34 уездах, в апреле им захвачены уже 174 уезда, в мае – 236, в июне – 280, в июле – 325. Эти цифры, однако, не дают полного представления о действительном росте движения, так как в каждом уезде борьба принимает из месяца в месяц более широкий массовый и упорный характер.
В этот первый период, с марта по июль, крестьяне, в подавляющем большинстве своем, воздерживаются еще от прямых насилий над помещиками и от открытых захватов земли. Яковлев, руководивший упомянутыми исследованиями, ныне народный комиссар земледелия Советского Союза, объясняет сравнительно мирную тактику крестьян их доверчивостью к буржуазии. Это объяснение надо признать несостоятельным. Правительство князя Львова никак не могло располагать крестьян к доверию, не говоря уже о постоянной подозрительности мужика по отношению к городу, власти, образованному обществу. Если крестьяне в первый период почти не прибегают еще к мерам открытого насилия, а стараются придать своим действиям форму легального или почти легального нажима, то это объясняется как раз их недоверием к правительству при недостаточной уверенности в собственных силах. Крестьяне только раскачиваются, щупают почву, измеряют сопротивление врага и, нажимая на помещика по всем линиям, приговаривают: «мы грабить не хотим, мы хотим все сделать по-хорошему». Они не присваивают себе собственность на луга, но косят на них сено. Они принудительно арендуют землю, устанавливая сами арендную плату, или столь же принудительно «покупают» землю по ими же назначенным ценам. Все эти легальные прикрытия, малоубедительные для помещика, как и либерального юриста, продиктованы на самом деле затаенным, но глубоким недоверием к правительству: добром не возьмешь, говорит про себя мужик, силой – опасно, нужно попробовать хитростью. Он предпочел бы экспроприировать помещика с его собственного согласия.