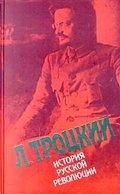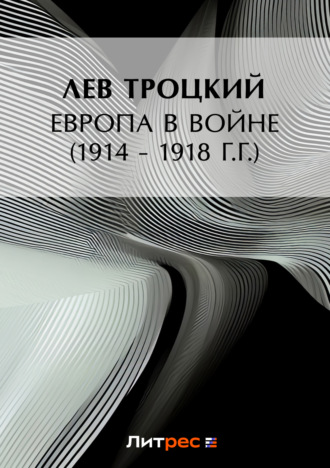
Лев Троцкий
Европа в войне (1914 – 1918 г.г.)
Л. Троцкий. УРОКИ ПОСЛЕДНЕЙ ДУМСКОЙ СЕССИИ
Последняя сессия Государственной Думы шла в атмосфере, насыщенной трупным запахом. Мы не о тех трупах говорим, которые должны служить оградой «государственного единства» империи и вместе мостом к Константинополю… сколько их, кстати, этих трупов? скажет ли нам когда-нибудь это хоть приблизительно наша жалкая и вороватая государственная статистика?.. нет, мы говорим о запахе политического трупа, о смраде, исходящем от прогрессивно-империалистического блока вообще и его левого, кадетского фланга, в частности.
Штюрмер, как мы знаем, встретил Думу девятью готовыми законами, проведенными за спиною злосчастного «народного представительства» по 87-й статье. Что же Дума? Так как законодательство, непосредственно обслуживающее войну, оказалось одним ударом вырвано из ее рук, она увидела себя вынужденной приступить к «органическому» законодательствованию на основе реформаторской программы прогрессивного блока. Первым делом третьеиюньцы решили осчастливить крестьян: надо думать, деревенские впечатления господ депутатов оказались достаточно тревожны. Казалось бы, если вообще чего-нибудь можно было ждать от буржуазной оппозиции, то именно тут, в крестьянском вопросе. Война до последней степени напрягла хозяйственные и личные силы деревенских низов. Правящая реакция не может не бояться на этой почве осложнений и, следовательно, – при действительно серьезном нажиме, – не может не идти на уступки. Что же делает прогрессивный блок? Провозгласив своей «программной» задачей уничтожение крестьянского неравноправия, он извлек из думских архивов столыпинский закон об отмене некоторых крестьянских правоограничений, закон, проведенный десять лет тому назад в жизнь в порядке все той же 87-й статьи. Весь свой реформаторский размах «прогрессивные» третьеиюньцы, руководимые кадетом Маклаковым,[207] свели к «легализации» и частичному дополнению одного из скаредных законов контрреволюции. Когда слева – далеко не с достаточной энергией и последовательностью – обличали ничтожный характер запоздалой перелицовки столыпинской реформы, либерализм возражал: мы стремимся осуществить… осуществимое. У него и в мыслях не было, чтобы закон о крестьянском равноправии превратить в таран, направленный против стены всероссийского бесправия. Имея пред собою сухомлиновщину, хвостовщину и распутинщину, пройдя через прошлогодние «недоразумения» в деле так называемой национальной обороны, либерализм, больше, чем когда бы то ни было, считает сословную монархию непреложным и незыблемым фактом, к которому нужно приспособлять всю реформаторскую работу. Само собою разумеется, что на этом пути третьеиюньцы не могли найти ничего лучшего, как уже десять лет назад проверенные и одобренные сословной монархией образцы законодательства. Третьеиюньцы отвергли попытку провозгласить – хотя бы в принципе – равноправие граждан, независимо от национальности и вероисповедания. Они отвергли частичное расширение прав евреев, в частности, отмену черты оседлости. Они сохранили паспорта и сословно-волостной суд. Главный довод их в ответ на критику слева гласил: мы не можем задаваться утопическими целями и предлагать реформы, неприемлемые для них: для монархии, бюрократии, дворянства. Недаром же от имени правительства выступал по этому вопросу новый товарищ министра внутренних дел, граф Бобринский, председатель объединенного дворянства и инициатор всех мероприятий контрреволюции! А в это самое время Государственный Совет из старого думского законопроекта об ответственности чиновников изгонял суд присяжных, сохраняя для чиновников суд сословных представителей: задача уничтожить сословность в добром согласии с этим архи-сословным Государственным Советом как раз пришлась по плечу прогрессивному блоку и его либеральным вождям!
Если история, наша собственная история за 10 последних лет, что-нибудь с полной несомненностью обнаруживает, так это полную тщету надежд и упований на демократически-оппозиционный рост русского либерализма. Ставши открыто и демонстративно на путь империалистического сотрудничества с монархией и сделав это сотрудничество основой всей своей политики, либерализм только завершил всю предшествовавшую свою эволюцию, как она была подготовлена и национальными и международными условиями его развития. Либеральная буржуазия так же мало способна сойти с империалистической основы, как и развернуть на ней сколько-нибудь энергичную оппозицию.
Империалистическое перерождение либерализма ставило, таким образом, принципиальный крест на одном из главных догматов меньшевистского течения в социал-демократии. Недаром же один из теоретиков меньшевизма оказался вынужден недавно заявить, что от надежд на «национальную революцию» приходится-де отказаться (А. Мартынов).[208] Правда, названный автор не попытался еще разъяснить ни тов. Мартову,[209] ни самому себе, что из отказа от двенадцатилетних надежд на революционную роль либеральной буржуазии в национальной революции вытекают кое-какие политические последствия; что всякие иллюзии и даже простая неясность по этой части превращают интернационализм из революционного в сантиментальный или декоративно-фразеологический; что, в частности, сбивчивость и бесформенность позиции даже лучших членов думской с.-д. фракции определяется в основе своей именно живучестью меньшевистских надежд на национально-революционную роль буржуазии. Но в истории общественных идеологий, бывает всегда так, что долго влиявшие идеи вспыхивают с особенной яркостью именно тогда, когда они уже окончательно пережили себя. Понадобилась война, обнаружившая всю принципиальную глубину примирения между либеральной буржуазией и дворянской монархией, чтобы социал-патриотизм овладел старой меньшевистской схемой и короновал ее – от собственных избытков – колпаком с дурацкими бубенцами.
«Первые заседания Государственной Думы ярко показали, каким могучим рычагом оказалось здоровое национальное чувство в деле политического пробуждения страны». Это, разумеется, из «Призыва», за март текущего года. «Прошли те патриархальные времена, когда улыбка начальства заставляла русский либерализм таять от умиления и отказываться от насущных требований. Декларация национально-прогрессивного блока прозвучала… как голос твердой, закаленной испытаниями политической воли…». Это все из передовой статьи «Призыва» (N 24). И для того чтобы не оставлять недоговоренностей, социал-патриотическая редакция, тряхнув бубенцами, заявляла: «Жалкие доктринеры и выдохшиеся революционеры поторопились объявить, что в период развития империалистического хозяйства пора национальных революций безвозвратно миновала». Все это очень красноречиво. Но вот в последней сессии «твердая, закаленная испытаниями политическая воля» прогрессивного блока приступила, наконец, к осуществлению своей программы и – несмотря на благоприятнейшие условия – не только отшатнулась от скромнейших предложений из сферы национального равноправия, но и в области крестьянского вопроса демонстративно отказалась идти дальше перелицовки оставленной ей в наследство столыпинской шинели. Г-н Маклаков – мозг и сердце блока – разъяснил, что это и есть их тактика, и что у них не будет и не может быть иной…
Хромой бог русского прогресса еще раз издевательски потряс в воздухе колпаком национальной революции, с размаху нахлобучил его на коллективный череп русских социал-патриотов и бесцеремонно прихлопнул сверху корявой рукой. Этим, конечно, не поможет, – зато другим наука.
«Наше Слово» N 161, 12 июля 1916 г.
Л. Троцкий. РАВНЕНИЕ ПО МАКАРОВУ
Французская пресса отзывается об отставке г. Сазонова в том смысле, что лучше было бы, если б ее не было. Не потому, что г. Сазонов незаменим. Наоборот, почти все газеты дают понять, что г. Сазонов был и оставался почтенной посредственностью, удел которой в такую эпоху, как нынешняя, состоял в том, чтобы совершать промах за промахом. С очень почтительной иронией газеты выдвигают на первое место крайний «оптимизм» г. Сазонова: почти накануне войны он утверждал, что никогда еще политический горизонт не был так ясен, как теперь; он оптимистически не предвидел вмешательства Турции в войну и оптимистически верил, что Болгария не решится воевать против «освободительницы» – России… Словом, он совершил все те ошибки, из-за которых пал Делькассэ,[210] плюс еще некоторые собственные. «Он не был великим министром», пишет о Сазонове «Libre Parole». Если тем не менее французская пресса не без искренности жалеет об его уходе, то только потому, что от него не ждали сюрпризов. Но что такое г. Штюрмер? Он не профессиональный дипломат, а только чиновник. Но, в конце концов, сущность чиновника, как определил еще Кукольник,[211] состоит именно в том, что он может стать и дипломатом и акушером. Так как г. Штюрмер стал дипломатом, то нетребовательная французская пресса желает ему идти по стопам г. Сазонова, – того самого, который не был великим министром. Но в таком случае смена была, по меньшей мере, излишней. А если г. Штюрмеру поручено направить свои стопы по другому пути?
Для успокоения общественного мнения французская пресса не без основания ищет причин последних министерских передвижений во внутренней политике России. Дело в том, что перемены не ограничились министерством иностранных дел. На пост министра внутренних дел назначен г. Хвостов, бывший министр юстиции, дядя знаменитого племянника, блестящая карьера которого так плачевно оборвалась на уголовщине. Наконец, министром юстиции назначен г. Макаров,[212] бывший министр внутренних дел, автор знаменитой фразы: «так было, так будет», сказанной по поводу вызванных провокацией ротмистра Трещенкова[213] ленских расстрелов. Макаров, подобно двум остальным членам черносотенно-бюрократического триумвирата, Щегловитову[214] и Маклакову, считался в либеральных кругах, так сказать, окончательно погребенным. Это придает тем больше блеска его назначению: совсем, как Лазарь, который уже смердел, а между тем воскрес.
Нужно признать опять-таки, что «Libre Parole» лучше других газет характеризует положение. «Ориентация русской политики, – говорит газета, – не переставала с начала войны колебаться то вправо, то влево… Эволюция (вправо) была отсрочена призывом к власти г. Штюрмера, который знаменовал собою если не поворот маятника влево, то по крайней мере время остановки, период выжидания. Дума была созвана. Но влияние правых снова проявилось, как только наступление открылось столь блестящим образом. Дума была распущена. Наступают перемены в составе высшего правительства, и на первый план выступают столь характеристические имена, как Макаров и Хвостов. Отныне отставка г. Сазонова становилась неизбежной».
Г-н Сазонов, как раньше г. Извольский, считался «доброжелателем» Думы, так как не отказывался пользоваться теми вспомогательными источниками информации, связей и влияния, какие открывало ему думское представительство. Штюрмер этой благожелательностью не отягощен. Правда, он созвал Думу, и недавно поданная царю записка правых (в составлении ее Макаров играл, надо думать, не последнюю роль) прямо обвиняла его в слабости и попустительстве заговору левых, которые, под знаменем национальной обороны, мобилизуются для захвата власти. Но это обвинение было явно преувеличенным. Если дебют Штюрмера на премьерском посту получил бесцветную окраску, в противоречии с более чем ярким прошлым дебютанта, то исключительно потому, что ему приходилось выжидать. Как только выяснилось, что общественные организации своим сотрудничеством помогли подготовить достаточно успешное наступление на австрийском фронте, Штюрмер немедленно же открыл наступление на фронте внутреннем, обнаружив полную готовность равняться по Макарову. «Так было, так будет».
Французская пресса просит читателей не беспокоиться по поводу немецкого имени нового министра иностранных дел. И действительно: «Что в имени тебе моем?» может сказать г. Штюрмер, готовый во всех смыслах идти в ногу с истинно русским Макаровым. Нельзя, правда, отрицать, что имя г. Штюрмера представлялось, как нельзя более подходящим, чтоб символизировать того «внутреннего немца», которого русские социал-патриоты обещали сокрушить одновременно с немцем внешним. Но в том-то и заключается мораль последних министерских перемен, что г. Штюрмер снова нанес этому политическому обещанию жестокий афронт: резкий поворот маятника вправо определился непосредственно успехами в Буковине, или, иначе сказать, внутренний немец, – под именем ли Романова, Штюрмера или Хвостова, все равно, – чувствовал себя тем прочнее, чем дальше отступали австрийцы. Это, конечно, противоречит социал-патриотическому прогнозу, но за то находится в полном соответствии со здравым смыслом и логикой вещей.
А как же все-таки с внешней политикой г. Штюрмера? Поданная царю записка правых, которая предопределила последние перемены, требует, как известно, возможно более скорого прекращения войны (см. «Наше Слово» N 169). Это, конечно, не помешает г. Штюрмеру сделать самые успокоительные заверения. Призвав одного из международных Тряпичкиных, г. Штюрмер завтра или послезавтра заявит, что война должна быть доведена до конца, т.-е. до сокрушения прусского милитаризма и полного торжества принципов права и справедливости. Как сложится в действительности внешняя политика России в ближайший период, это зависит от факторов, более серьезных, чем «программа» г. Штюрмера.
«Наше Слово» N 172, 27 июля 1916 г.
Л. Троцкий. ДВЕ ТЕЛЕГРАММЫ
Вопреки ожиданию, г. Штюрмер не призвал к себе союзных журналистов и не сказал им ничего бодрящего, так сказать, дух. Более того, он не принимал союзных посланников, а поручил это своему безвестному товарищу Нератову,[215] который и сделал представителям союзных государств разъяснение в том смысле, что ничего особенного не случилось.
Самолично г. Штюрмер пока что лишь обменялся телеграммами с г. Брианом. Сообщив своему адресату, что е. и. в., «мой августейший повелитель», соблаговолил призвать его, Штюрмера, и пр., новый царский дипломат заканчивает уверенностью в том, что обе союзные страны пойдут вместе «в великой задаче, которая падает на нас в нынешних многозначительных обстоятельствах».
В ответ на это г. Бриан телеграфировал о готовности Франции идти вместе с храбрыми союзниками «до окончательного торжества».
Мы, вообще говоря, не питаем склонности к истолкованию поздравительно-дипломатических телеграмм. Но тут нельзя не обратить внимания на то, что г. Штюрмер говорит о «великой задаче», за которую он собирается приняться, не указывая точнее, в чем именно эта задача должна состоять.
Если же мы обратимся к «Journal», то узнаем насчет «великой задачи» следующее. В русском министерстве иностранных дел петроградскому корреспонденту этой газеты сообщили, что соединение портфеля иностранных дел с председательством в совете министров диктуется некоторыми важными вопросами.
– На какие вопросы намекаете вы? – спросил корреспондент, любознательный, как все корреспонденты.
– А вот, напр. (!!!), в момент подписания мира мы должны будем регулировать с нашими союзниками вопросы экономического порядка, или касающиеся внутренней политики в стране, и это будет тем легче сделать, если мы будем обладать совершенно однородным министерством.
Допускаем, что г. Штюрмер действительно может понадобиться на тот случай, если бы оказалось своевременным подписать мир. Но почему и для какой именно «однородности» необходим тут Макаров? На это корреспонденту «Journal» намекнули указанием на то, что вопросы мира могут оказаться связанными с вопросами «внутренней политики в стране». Каким образом? Это тоже не трудно понять, если припомнить и сопоставить кое-какие факты.
Не так давно приезжал к западным союзникам г. Барк.[216] Цель его визита, уже ввиду его профессии, не могла возбуждать сомнений. Имел ли он успех? Г-н Протопопов на этот вопрос отвечал уклончиво: «Мы, мол, разминулись с г. Барком в дороге, так что ничего положительного сказать не можем…». Но г. Милюков был более определенен. «В Англии и во Франции – так рассказывал кадетский посланник – нам отвечали, что денег есть сколько угодно… в Америке. Но что для получения этих денег нужно дать уступки евреям».
– Да ведь это же непозволительное вмешательство во внутренние дела, – ответил немедленно Марков 2-й: – жид мой, хочу во щи лью, хочу – с кашей пахтаю, – союзникам какое дело?
– Вмешательства тут никакого нет, – возразили ему, – а просто союзники, в связи с вопросом о новых миллиардах, желали бы поговорить о некотором согласовании внутренней политики с внешней.
– Согласование? – откликнулись немедленно из Петергофа, – сколько угодно! И Штюрмер немедленно был приглашен заведовать внешней политикой, а Макаров – юстицией. На вопрос о согласовании внутренней политики с внешней Макаров только чуть-чуть перефразировал себя: Как было, так будет. После этого «однородность», столь необходимая, как разъяснили союзному журналисту при подписании мира, была достигнута вполне, и г. Штюрмер, приступая к выполнению «великой задачи» (без дальнейших определений), мог со спокойной уверенностью пожелать г. Бриану по телеграфу от бога доброго здоровья.
«Наше Слово» N 173, 28 июля 1916 г.
Л. Троцкий. О РУССКОМ ИМПЕРИАЛИЗМЕ
Что война на стороне России имела ярко выраженный империалистический характер, оспаривать это могли только глупцы или пройдохи. Весь режим 3 июня был широко поставленной попыткой примирения капиталистической буржуазии с бюрократической монархией и дворянством – на том условии, что монархия сумеет обеспечить международные притязания русского капитала. Буржуазия давала правительству авансом полное свое содействие. Наиболее влиятельная часть либеральной буржуазии открыто благословила устами Гучкова государственный переворот 3 июня 1907 г., как «печальный, но необходимый акт», и дала свое освящение виселицам Столыпина. Левое крыло буржуазии, в лице кадетской партии, вступило обеими ногами на почву третьеиюньского соглашения имущих классов. Наклеив на себя рабский ярлык «ответственной оппозиции», кадеты торжественно отказались от покушений на основы столыпинского режима и взяли на себя целиком ответственность за его внешнюю политику. Более того. Именно кадеты, пользуясь той долей свободы, которую им предоставляло их формально-оппозиционное положение, развернули в наиболее необузданной форме притязания русского капитала. Еще в то время когда столыпинская пресса травила кадет, как злоумышленников, Милюков выполнял официозные поручения русской дипломатии.
«Дипломатическая Цусима» царского правительства после аннексии Боснии и Герцеговины (1908 г.)[217] дала могущественный толчок развитию русского империализма новой эпохи. Буржуазное представительство не только не отказывало бюрократии в военных кредитах, но обвиняло ее в чрезмерной ограниченности расходов на вооружение. Гучков заседал с Сухомлиновым в комиссии государственной обороны как поручитель за бюрократию перед буржуазными классами. Милюков совершал дипломатические поездки на Балканы, в Англию и даже за океан и связывал в буржуазном сознании идею тройственного согласия с программой захвата Константинополя, Армении, Галиции и пр. Кадетская печать воспитывала общественное мнение буржуазно-интеллигентских общественных групп в духе грубого германофобства. Симпатии русской реакции к «крепкому» гогенцоллернскому режиму ставились при этом на одну доску с «немецко»-марксистским характером русской социал-демократии. Обывателю обещалось благотворное либеральное влияние Англии и Франции на русский политический режим. При этом либеральные демагоги и фальсификаторы, разумеется, ничего не говорили о том, что победа над революцией была обеспечена благодаря французскому золоту и международному соглашению с Англией и что, с другой стороны, весь третьеиюньский режим, созидавшийся при участии кадетов, был только камаринской подделкой под прусско-немецкие образцы. В выкриках третьеиюньцев против прусского милитаризма было всегда больше зависти, чем вражды.
Русский империализм, непосредственно контрреволюционный характер которого был несомненен для всех русских социал-демократов, сыграл виднейшую роль в подготовке нынешней войны. Правда, военные силы третьеиюньцев оказались несравненно слабее, чем их аппетиты. Поражение следовало за поражением, обнаруживая всю гниль режима. Но это нимало не меняло империалистически-хищнического характера войны на стороне России, – как и на стороне ее врагов. Вступают ли русские войска в Лемберг или же немецкие занимают Варшаву, это очень важно с точки зрения успеха империалистического предприятия; но это не меняет его существа. Социал-демократия, поскольку она хотела оставаться революционной партией пролетариата, не имела права ставить свое отношение к нынешней войне и ведущему ее государству в зависимость от преходящих стратегических ситуаций. Да такой эмпирический критерий и на деле неприменим. Война ведется одновременно на разных фронтах, и успех на одном может сопровождаться неудачей на другом. С другой стороны, силы и средства, добровольно врученные социал-демократией на дело «самообороны», в случае военного успеха неизбежно будут употреблены государством на дело нападения. Ибо, как объяснял Плеханов, только опрокинув врага навзничь, можно надлежащим образом обеспечить «самооборону».
Политика русских социал-патриотов дореволюционной эпохи и направлялась на то, чтобы опрокинуть немцев навзничь. В этом смысле социал-патриотизм был только преломлением планов и надежд национал-либерализма. Октябристы, прогрессисты и кадеты целиком подчинили свою политику потребностям «победы».
Народы очень немногому учились до сих пор из книг и из опыта своих соседей. Только те уроки истории прочно входят в сознание, которые оставили след на собственной коже. Широкие слои русского рабочего класса теперь стараются показать, что и они не ушли из-под власти этого исторического закона. Они принимают за чистую монету опустошенные слова и поклоняются давно развенчанным идолам.
Формулы «революционного» патриотизма находят сейчас широкое распространение среди рабочих масс. С новым чувством поется марсельеза – не только ее мелодия, но и ее старый текст, призывающий граждан к оружию – против внешних тиранов. Война кажется массам продолжением или, по крайней мере, защитой революции. Между тем в руках правящих война является единственным средством приостановить революцию, совладать с ней и раздавить ее.
Не только судьба русской революции, но и судьба всей Европы и всего человечества зависит сейчас в огромной степени от того, поймет или не поймет русский пролетариат свое место и свои задачи в истории.
1926 г. Архив.