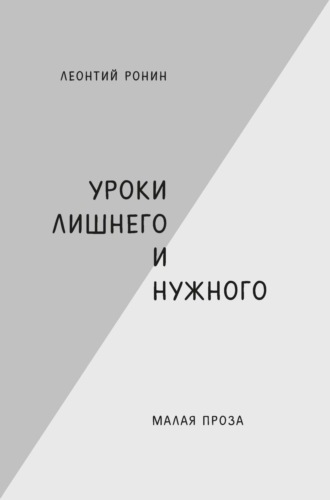
Леонтий Ронин
Уроки лишнего и нужного
© Ронин Л.Г., 2021
© «Пробел-2000», 2021
«Вообще жизнь для полного развития требует событий»
А. Герцен
«Все есть текст[1], все в мире… Нужно уметь читать»
А. Пушкин
«Они были простыми заурядными людьми. Кому нужно, чтобы они ожили на белом листе. …Памяти белого листа»
И. Бродский
«Еще не жила, вся жизнь впереди, сделаю аборт» «А мне детей Бог не дал. Вся жизнь позади, а еще и не жила…»
(разговор)
Миниатюры[2] или Всячина всякая
Жизнь собачья
…домашняя или дворовая; возле взрослых и детей; кошек, попугаев, черепашек… Нравы и характеры лающих, лохматых, лопоухих… Истории их смешные или грустные – для нашей повести
…Где котята вякают в сумке, птица пискнет.
У мальчишек клетки с живым товаром, голубей прячут на груди.
Пока шарил мелочь и разглядывал – счастливый ли билетик – приехали. И тут, сразу… кошки.
«Сиамские» в розницу: двадцать пять.
Пустыми, словно, выцветшими, глазами дорогие кисы в упор тебя не видят, смотрят в вечность.
Простые оптом: рубь пара.
Тут еще, как бы, не рынок, даже не «птичка», скорее «рыбка», царство Нептуна, разнесенное в банки, баночки, большие и малые аквариумы.
Сосуды на земле, в руках, на шее через ремешок, как фотоаппарат. Черви спутаны в красноватый клубок и хозяин рыбьего корма поглаживает кишащую массу, запускает пальцы – нежно, будто в загривок любимого пса.
Собаки, оказалось, вообще за другим забором.
Гавкают, скулят, или понуро молчат, устало, от мельтешения наших ног.
Породу щенячьего товара определить затруднительно.
Но хозяин охотно объясняет: «Лайка»…
Может, от «лай-ять»?
Наконец, вот, чистопородные «дворяне» – черные кобельки дремлют в хозяйственной сумке.
Разбудили, достали – покрутился и лег на землю мелко дрожать, не желая демонстрировать свои стати. Другой принялся бегать вокруг ног хозяина, мотать тонкий поросячий хвостик, черные глазки весело блестят.
Поднял его, а к высоте не привык, тревога в глазах.
Но в следующее мгновение хвостик ожил, лизнул ладонь – познакомились.
От темной шерстки – «Темка», билетик вышел счастливый.
Черная собака несется, не видя округ.
Надеясь на «да», нюхает асфальт… «нет».
Крутится, вертит голову.
Обратно бежит.
Снова стоит.
Потеряла хозяина?
Тащится за прохожим.
И назад – за женщиной…
Увязалась с дорожными рабочими в оранжевых куртках.
«За кем-то идти, а то горе», – поскуливает тоскливо, отвечает сочувствующим взглядам и словам…
Пушистый шар подкатил, и девочка отдала пирожок – не взглянул на угощение, нос в сумку, где мясо.
Так и шел за ней к дому.
И стал Диком – волчонок, маленький и дикий.
У крыльца, в сугробе, черный пес, кто Угольком, кто Цыганом кличет.
Спина вихляет, хвост мотается, а зубы скалит фальшивая улыбка – здороваюсь прохладно, голосом, не подавая руки. И боком, не оступиться в сугроб на тропке, расходимся.
Пса словно душат – отпускают, снова душат, и он хрипит в этих паузах – лает…
Рыжие кудряшки Жю, светлые Ли.
На «ЖюЛи» подымают обе морды.
Встречных приветствуют звонко и небрежно, на бегу, как дети, взрослых и неинтересных персонажей.
Носятся за птицами, тянут за собою миниатюрную сеньору – искусственный мех короткой шубки, зеленое трико.
Колченогого песика звали «шериф», с большой буквы, другого имени не получил.
Не приписан какому двору.
Знал, где кормят, а подкармливали все, много ли малому надо.
Незнакомого не облаивал.
Заходил с тыла, трусил позади, вынюхивал.
Вставал на пути и с достоинством тявкал.
Будто доку́мент требовал предъявить.
Человек улыбался, что-то ласково произносил – «паспорт» был в порядке…
Если пьян, зол, без чувства юмора – подымался трезвон на всю деревню; вертелся, забегал с флангов, с тыла.
Чужак размахивал руками-ногами, от комара в собачьем роду. Малыш не отступал, пока хозяин ближнего двора не выходил.
Тогда подкатывал, приветствуя его хвостиком и словно докладывая о происшествии.
Деревня его обожала.
Но никому не позволял фамильярного сюсюканья, попытки гладить – увертывался, будто подчеркивал: шериф на службе…
Из-под земли, почти буквально, у ног, кутенок вырос.
Если не в капусте соседнего огорода жил.
По часовой стрелке за своим хвостом с белой кисточкой, против часовой…
К бабочке взлетает, то шаловливо жмет морду к земле.
И неописуемая радость в глазах под седыми бровями – будто очень соскучилось обо мне это милое существо с белым шарфиком на шее, манишкой на груди, в белых носочках и смешной бородой на детской мордочке… А под шерстью ладонь встретила ребра стиральной доски – миска с манной кашей очистилась мгновенно, живот раздулся.
Тотчас принялся тянуть зубами штанину, рыча, повизгивая – может то щенячья благодарность за угощение?
Но испуганно присмирел, когда высоко – глянуть, мальчик у нас, девочка?
Ткнулся в плечо, прижался успокоено, только что не заснул.
…И вновь стремительное уничтожение пищи, полеты за бабочкой, гребля носом травы, с чихами и фырками.
Уходя от воображаемой погони в сумасшедшие виражи и бешеные зигзаги, подкатить к ступеням крыльца, передними лапами обнять мое колено, чтобы сразу оттолкнуться и умчаться в дальний край двора.
Сухого сена в будку, теплое что-нибудь на крыльцо…
Вернулся с матрасиком – его не видно.
И в огороде нет.
За огородом.
У колодца.
В саду.
В деревне о собачонке не знают, не видели.
В самом деле – а был ли песик?
Лизнул колбасу.
Головой повертел: случается еда – нет желающих покуситься?
Спешно заглатывать?
Лучше не быстро.
Вспомнить запах.
Дух волнующий, не припомнить…
Теперь в снежные и зеленые дни, в холод и зной случалась тянущая боль в брюхе – пока не найдется что проглотить.
Прежде, за высоким забором, такой не знал.
Хотя в щели конуры дуло, но под сеном всегда можно спрятать нос, а из брюха грело.
И тогда снилось – чисто оставляет миску и довольно облизывается…
Миниатюры Побегать не пускала цепь.
Лаял на всех, кого не знает.
Но удирать-то не собирался…
Случайно скользнул через голову ошейник.
Ворота были настежь – трактор тарахтел по двору.
Побегаю и вернусь, думал.
Летел на край улицы, и дальше.
Густой травой нырял и выныривал.
Купался волей.
Вдруг уперся на бегу.
Поднял морду к близкому перелеску.
И сорвался туда спущенной стрелой, на голоса собратьев – там двигалась свадьба.
Невеста, скромная сученка, испуганно озирала женихов.
Те, что пришли раньше, свесив мокрые языки, тяжело трусили, изрядно отстав.
Но и усталость не могла лишить надежды на обещанное, казалось, именно ему, угощение в конце пути.
Пес забыл службу, конуру.
Миску не вспомнил.
И покатил со свадьбой невесть куда.
Давным-давно было.
Но живо припомнилось.
Доел колбасу и задремал.
Светло-коричневый карликовый пинчер, с острыми ушками – маленький Конек-Горбунок…
Вьется у ног хозяйки – высокой, тонкой девицы – словно бабочка, только что не липнет к элегантным брюкам.
Ее волосы тоже светло-коричневы и ноги – от шеи, у хозяйки, у собачки…
Не надо быть Ньютоном, догадаться, как притягивают мальчишек яблоки чужого сада – и нарядить туда Мухтара.
Пес придворно-вольный, на свободных харчах у деревенских калиток, работать ради хлеба насущного отвык.
И хозяйский сад сторожит спустя рукава.
Понуро волочит цепь. Лениво, может и через губу, полаивает на пацанов, идущих мимо.
От бессмысленности такой жизни часто поскуливает-подвывает: лапы и нос скучают по норам сусликов, шкура вспоминает теплые лужи песчаной дороги…
В ночи фосфоресцирующие стрелы собачьих глаз летят к окнам освещенного дома хозяйки.
Кладет морду на лапы – терпеливо ждать, отпустят на волю когда.
На поводке, собранном из мятых платков – уголки торчат листиками ритуального дерева – семенит беспородная собачонка.
В метро хозяйка уложила ее в колени – «отдохни, собач» – и та устало не шевелилась.
Летняя шляпка с причудливыми кренделями на тулье.
В светлом пакете мешанина пищи, такой несут к мусоропроводу.
На женское пальто – мужское…
Жилет еще, поверх.
И неотрывно смотрит куда-то далеко, но осмысленно и серьезно.
Пассажиры, входя, опускаются рядом.
Оглядевшись, пересаживаются.
Не острый дух бомжей возле – запах гари и пепелища.
Конечная станция – «…просьба освободить вагоны».
– Пойдем, собач.
Дама и собачка перешли к поезду в обратную сторону.
Другое наше завтра
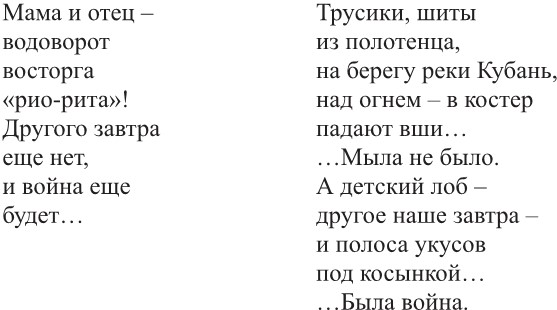
– Мама, а когда машина эта моя вырастет – она будет автобусом?
– Собака пришелец.
– Как пришелец?
– Ну, она сама к нам пришла.
– А горлышко-то у тебя красное, – доктор говорит.
– Как яблочко?
– Сейчас пописаю и пойдем к дедушке?
– Пойдем.
– И будем там жить?
– Да.
– И бабушка нас не найдет?
– Негр. Он из Африки. Он учится в нашей школе.
А потом будет учиться в институте.
– А в Африке школ нет? И института?
– Там очень жарко, в Африке.
– Ну и что, что жарко?
– Ну как же, очень-очень жарко и негры ходят там совсем голые.
– Совсем-совсем?
– Совсем, только в трусиках, а голых в институт не принимают…
– Орел всех сажает на спину, орлят, их друзей и товарищей, летает с ними, всем показывает землю и город. А потом вдруг опустился и сел в автомобиль.
Почему, я спросила. Крылья у меня устали, говорит…
– Для резиновой черепашки я сделала домик из детской книжки.
– А папа где?
– Он ушел.
– Куда ушел?
– Куда его выгнали.
– А куда его выгнали?
– К тете.
– Лева, а деньги тебе нужны?
– Нет.
– Почему?
– Не надо баловать.
– Кто сказал, что деньги балуют?
– Папа.
– У папы тоже денег нет?
– У него есть.
– А кто его балует?
Лева задумался:
– Его на работе балуют.
– Ты тоже работал нынче летом?
– Да, археологом.
– Кем?
– Ну, на кухне…
– Трудно было?
– Да не очень.
– Ты один был поваром?
– Да, я был один. Другие менялись.
– Довольны были, как ты готовил?
– Да, все жали мне руку и говорили спасибо, Лев Николаевич.
– А ты готовил завтрак, обед и ужин?
– Да, обед и ужин, а завтрак нет.
– Почему?
– Я просыпал на завтрак…
– Лева, а тайну тяжело хранить?
– Тяжело. А когда расскажешь кому-нибудь – легче.
– А какие девочки тебе нравятся? Беленькие или черненькие? Может, та, с длинной косой?
– Я про косу не помню. А какой у нее был рюкзак?
– Лева, почему ты не выучил урок?
– Мария Степановна, вы меня обычно не спрашиваете, вот я и подумал, не спросите же…
– Лева, составь предложение со словом «лето».
– Вот и снова прошло такое короткое лето.
– Лева, ты далеко?
– В туалет, Мария Степановна, я не хотел вас беспокоить…
Слово, которое не произнес, и молчаливый мне ответ – оба услышали: он потянулся ко мне.
Я не мог его предать.
И помочь – не могу.
Сейчас его уведет высокая женщина с грубыми руками.
Он опустил голову.
А поднял лицо, мокрое от слез, впору тоже было зареветь.
Она смилостивилась; или помучить напоследок?
Позволила нам еще, совсем немного.
…в сон приходил сын, не успевший увидеть свет.
На цыпочках сидит человеческий клубочек, светлые кудряшки, пальчики тянет потрогать синенький цветок…
Крик новорожденного – лишили теплого гнездышка…
И на бюст сильный пол смотрит, может, невольно, первый рефлекс детства – грудь матери…
Детей любим – свое прошлое…
Тянется к затонированному окну лимузина, шумно дышит на стекло и пальчиком, по запотевшему – каляки. А девочка, по снегу бокового стекла, пальчиком тоже, сердечко – оно улыбается и глазки…
Громко и шумно:
– Ой!
– Что с тобой?
– Влюблена!
И хохочут обе.
У калитки мальчуган, отцовские сапоги, плащ до земли.
Шаркает подошвами, догоняет, встает на пути и, глядя в сторону, простуженно хрипит:
– Ты сто без сапки? Потерял сапку, да?
– Ты меня любишь? Тогда поцелуй в лобик.
Тянет губы к ее лбу.
– Да нет, в другой лобик. Где мама целует и говорит люблю.
И опускает… трусики!
Мальчик покраснел.
– Так ты меня не любишь?
Восемь с половиной им.
На двоих.
– Мама Инга говорит, что она артистка. Наверно врет…
– А ты кем хочешь стать?
– Я тоже хочу быть артистом. Но мама говорит, что только через ее труп…
Бежит, ранец шаркает асфальт.
Трудно на крыльцо, запнулась.
– Куда спешишь?
– За вами. Меня лифт одну не везет. Я легкая, – и обида в глазах на этот плохой лифт.
В автобусе яблоку негде…
А кто-то обнимает… ногу?
Возле колена…
Нежно и крепко…
Пассажиры тесно спрессованы.
Длани воздеты к поручням.
С остановкой отпустили…
Белобрысый пацан рядом, держится теперь за сумку мамы.
Разглядывает теть и дядь, за которых хорошо уцепиться…
Талибу отец поручил ночью ишака закрывать одеялом.
Талиб хорошо справлялся с этой работой, а тут как-то задремал. Проснулся, отец одеяло стянул, в ногах сидит: – Что, сын, замерз? Ишаку тоже холодно…
Кнопка задранного носика, любопытные глазища…
На другую линию метро – девушка, мило вздернут нос, умны и внимательны глаза.
… Как быстро растут дети!
Девичья стайка за воротами школы рассыпалась.
В спину одних, вдогонку им, другие:
– Сами вы лесбиянки!
Рядом шагаю:
– Что они крикнули?
– Не знаем, – одна, поменьше.
– Это когда девочка с девочкой, – другая.
И уже готова объяснить…
– А сколько вам лет?
– Девять.
Мальчики лет десяти останавливают такси, заглядывают в кабину, ведут переговоры с водителем – смело садятся, хлопают дверцами, привычно, будто на такси с пеленок.
Девочка спрашивает маму: «А где контролер?» – и улыбается радостно, предвкушая эту встречу с минуты на минуту.
Сижу напротив – отчего-то неловко и тревожно, словно душу твою видят распахнутые глаза слепого ребенка…
Риту из третьего «Б» поцеловал мальчик четвертого «А».
В дневнике записала: «Сегодня я стала женщиной».
Под идиотскими и грязными письменами на стенах подъезда, ниже их, корявое детское, трогательное – «мама»…
«Фитиха» зовут дети учительницу Фиону Тихоновну.
Легкий, от бедра, шаг.
Высоко голова, плечи развернуты.
Умеет гореть глаз и обманывает голос…
И в ребре бес живет – семидесяти не дают.
…А ребенка катят в коляске.
Тянет пальчик и глаголет, неизвестный младенец, одно из трех, наверное, слов, ему знакомых:
– Деда!
Вот-те-раз…
Упали плечи.
– Я сегодня по лестнице без лифта унизилась.
У папы на коленях, нежно ручкой обвивает, юная кокетка:
– Тебе со мной хорошо?
– У меня такое тело, что оно не может спать днем.
– На рубль купи хлеба, на другой мороженого.
– А хлеб на какой рубль купить – на этот, или на этот?
Из озорства, чаще, путал имена.
Аня не сердилась, в самом деле, словно, была Алена.
Алена, хотя посмеивалась, не соглашалась, что она – Аня…
Может и правда забывал – их совершенно похожие ручки на прогулках держались за его палец.
Еще не умея говорить, сидели на коленях и любопытные пальчики изучали его губы, нос, глаза, уши, брови… Впрочем, и Аня-Алена, или «Анена», дочка и внучка, тоже звали его одним именем – дедушка.
– Ты мишку плюшева знаешь?
– Нет…
– Вот он и есть ты.
– Мама, у дяди ножки нет, а почему он хромает?
Папа Римский однажды вернулся в Ватикан сильно веселый. «Вас послы ждут, – говорят ему. – Изволите принять?» – «Не хочу и не буду, мне и так хорошо», – ответил Римский П.
А в городе К на реке Е тоже жил товарищ П. В детстве он был мальчик Ж и не хотел кушать перепелиные яйца: «Не хочу и не буду, мне и так хорошо», – отвечал он маме.
Пусть не знает, не умеет, но может – «младое, незнакомое» другое наше завтра!
«…Ну что Париж?»
Проходом кресел неспешна раздача заоблачного питания.
Красное вино – 187 грамм, точно в аптеке.
Но пары хватило почувствовать себя гражданином мира.
В узком и легком смысле – меж небом и землей; а в проходе кресел у в и д е т ь строчку: рука с псориазом развернула «Фигаро».
Через полчаса испарится мировое гражданство, стали спускаться. Ниже мини-самолет, светлый, как нательный крестик.
И движется, кажется, боком. Что-то из разных плоскостей, плюс скоростей?
Если теперь нельзя путешествовать в карете или возке…
А ежели по воздуху, ковром-бы-самолетом.
Только не авиалайнером.
В этой консервной банке, где анестезируют бешеной скоростью, искусственным давлением, дозированным кислородом. Открываешь глаза с ударом колес о бетон при посадке – как оказался за тысячи верст от дома?
E-два, е-четыре, только и всего.
Текут люди, ручьи от боковых улиц, реки по главным.
Разлились озерами, зрелище у центра Помпиду или митинг на площади Республики.
Людские водовороты в подземелья метро.
Запруды у плотин красного света – и отпущено катят встречные волны на зеленый.
Мгновенья плывущих мимо лиц…
Усы солидного господина заточены пиками острых стрелок: восемь часов, двадцать минут. Глубокая морщина на переносице, отчего глаза другого сеньора сидят, кажется, на дужке пенсне.
Просторный комбинезон, словно белый хитон.
Черные кудри схвачены лентой через лоб.
Рабочий вцепился в крестовину ограждения, свободная рука тянется что-то достать: распят на строительных лесах.
Угол узкой улицы облюбовали путаны.
Помоложе мило улыбается, кивнуть ей приветливо…
Другая, совершенно Кабирия, независимо и недовольно отворачивается, словно ее чем-то обидел.
Она родом с Кавказа, ее кличут Ляля Кебаб.
В полдень шабашут коллеги «распятого» мастерового.
Собирая капли вина в последний глоток, рабочий высоко задрал пустую тару – будто подзорную трубу.
Перед центром Помпиду зрители на траве, амфитеатром по склону газона.
И выше, по балкону бульварной ограды.
Мелкими волнами плещет недружный аплодисмент простеньким фокусам и жонглированию уличных циркачей. Смеются шуточкам ниже пояса.
Площадь Республики шумит митинговыми банальностями.
Кроме хлеба зрелищ, пипл ищет и крови красных, хотя бы, флагов?
Или ностальжи по баррикадам у парижан в генах?
Не отбирайте игрушку у ребенка, красный флаг у ветерана – детство и старость так быстротечны…
Синие полицейские автобусы картинно катят с мигалками и сиренами, неспешно и бережно тормозят.
Будто важные чины прибыли, не ажаны.
За тонированными стеклами эти vip-персоны должны бы сидеть развалясь, нога на ногу – так расслабленно и нехотя покидают машины.
Высокие ботфорты, шеломы на головах – хоккеисты…
Только игроки, кажется, не настроены бороться и победить.
Так, поприсутствовать решили, чем победа уже обеспечена. Митингующие не глянули на блюстителей, тем оставалось лишь покурить на свежем воздухе.
Городской патруль плывет на роликах – он и она, разве за руки не взялись, влюбленные…
Парочка при исполнении: дубинки, наручники, пистолеты, но улыбчивы и спокойны.
А вот и три товарища в легкомысленных, непонятно как держатся, пилотках. Полицейские словно гуляют по городу, мило беседуют.
Останавливаются – что-то важное в общем разговоре.
Спорят и жестикулируют.
Может, после смены идут пропустить стаканчик?
Но профессиональный укол бокового зрения – тип слишком пристально их разглядывает…
А тот любуется черными мундирами.
Ладно пригнаны, точно на моделях сидят.
В самом деле, свалился с иной планеты, людей не видел?
Да, на его малообитаемой лица иные.
Нередко похожи стражи порядка и братки из черных джипов.
Тех и других лучше огибать за версту. И не дай бог пялиться бесцеремонно на физиономии…
Таинственные фигуры в черном – разрезы вместо рукавов, крылья за плечами…
Театральные кулисы, прячут легкое, бесплотное.
Невольно ищешь взгляд под невообразимой шляпкой, или накидкой-капюшоном, или подобием вуали – но они лишь рампа сцены, где живет пара блестящих глаз, стреляющих навылет, не говорящих о возрасте; вечность, из которой они пришли сюда на миг.
Черная фетровая шляпа прошлого века поверх теплого коричневого платка. Длинное пальто тех времен – за витриной, в глубине магазинчика, в старинном кресле, царственно беседует с хозяйкой… профиль Анны Ахматовой!
Хозяйка нервно суетится.
Гостья величественно немногословна, больше говорят руки, с пальцами красивыми и тонкими не по летам: парижанка…
Из сумки, в ее коленях, собачонка на фигуру за стеклом тявкнула – не понравилась…
Сеньора тоже глянула.
Кивнуть – глупая двусмысленность. Пожалел, что ношу бейсболку.
Почтительно бы приподнять шляпу…
У перекрестка, перед красным, изысканно тонкий профиль молодой дамы. Трость-зонт с вязью черно-белой ткани и золотого цвета ручкой.
Индийский плат на плечах.
Но взгляд туманный, будто не в фокусе.
Строг и вовсе не добр, профиль обманул.
На зеленый она шагнула, опираясь тростью и сильно хромая.
Плечи закачались чашами весов, а под платком обнаружился невеликий холмик.
Быстро и деловито ее обогнала девица с кошкой на плече. Серебряная сбруя по блеску черной шерсти и белые джинсы смотрелись, хочется сказать, островагантно – совершенство юной фигуры в идеальной оболочке из современной ткани.
А эти стоят в кружок.
О высоком градусе спора можно судить по жестам возмущенных рук.
Презрительным гримасам.
Осуждающим взглядам и нетерпеливым движением головы, откидывающей волосы. Но голоса журчат еле слышно – ручей в лесу.
Велосипедистов целая семья – папа, мама и дочери.
Совсем маленькая на багажнике мамы спит, крепко схвачена ремнями.
Даже на свидании мадмуазель вяло крутит педали, он бодро шагает рядом. Говорят, смеются, переглядываются нежно – мадонна в седле…
Бездомные улиц Парижа не походят на наших бомжей, немытых и мало берегущих свою полупьяную жизнь.
Здесь они клошары, вроде бы романтики-бродяги, почти туристы.
Под стеной бульвара по берегам Сены ожидают парохода в счастливую страну.
Дым костров коптит камни берегового откоса.
От дождя, снега и тумана навес из прозрачной пленки. Ждут, похоже, давно…
Угол улиц Святого Антония и Риволи, девочка под теплым одеялом.
Мама устроила «окоп» из пустых коробок, чтоб не дуло.
Сидит в ногах ребенка, спокойно и негромко говорит, может сказку, про ту счастливую страну?
Спиной к автомобилям у бетонного столба, алый подбой «аляски». Небрит и обветрен.
Что называется, огонь, вода и все остальное за плечами, чисто разбойник…
Ноги вытянул, мешают прохожим.
Вязаная шапка рядом: «положи варнаку краюху, чтоб дом не разорил», – сказали бы в Сибири.
И быстро пишет в толстую тетрадь – «записки у обочины»?
В пустом вечернем переходе эстет и любитель комфорта.
Легким барьером, такие ставят на гаревой дорожке бегунам, демаркировал занятое пространство.
Свое, хотя бы на ночь.
Надувной матрац, белоснежный пододеяльник.
Рядом скамейка, где стакан и бутылка воды.
Этот на шумной улице в нише здания, тонкий тюфячок…
Собака спиной греет хозяина, тоже спит.
Жалкий скарб чуть в стороне. Да кто покусится?
Молодые негры пританцовывают под барабан пластмассового кейса. Раскачиваются, что-то африканское репетируют, шляпа на асфальте с монетами.
Лица грубо рублены от целого ствола.
Или выбиты из глыбы черного гранита, без отделки и шлифовки.
Волос свалялся в толстый войлок.
…Вот он, желанный пароход!
К бордюру причалил белоснежный лимузин. Не сразу дверь отворилась.
Дама с красным крестом на куртке несет человеку, он сидит на камнях, свежий «французский» батон.
Другая, следом, пакет, достает: носки, полотенце, брюки спортивные, постельное белье.
Первая, с батоном, опустилась рядом.
Человек тычет щеку: здесь болит…
То же место она трогает у себя, долго не убирают пальцев.
Он коротко продолжает спрашивать.
Она терпеливо объясняет.
Шофер, тоже с пакетами, расположились вокруг.
Тема, очевидно, зуб, что беспокоит.
Беседуют дружески, словно давно знакомы, неспешно и обстоятельно.
Когда, наконец, подымаются, жмут его руку…
В Париже солнце и холодный ветер из России: в Москве снег и минус два. Здесь каштаны в огромных кадках.
Их белые цветы – маленькие весенние елки, или новогодние свечи.
Люди в майках и… дубленках; легкий пиджак распахнут; шарф этаким немыслимым кренделем, точкой над «и» парижского шарма.
В сквере острова Ситэ утка неловко прыгает на одной лапе.
Мокрая и жалкая, квохчет, разинув клюв.
Селезень преследует, сухой и красивый.
И никакого сочувствия даме…
Забилась под скамью, отряхивается, чистит перья.
Он неподалеку, наблюдает и ждет.
На траве любовным бутербродом другая парочка.
Целуются, им не холодно.
Художник дремлет в гамаке, узком, как раскрытый стручок.
От тяжести тела створки почти сомкнулись. Ветер покачивает цветастую люльку.
Рисунки внизу прижаты камнями.
С дерева бог послал…
Может, птичка метила в раскрытый блокнот, не нравятся эти записки?
Но ее критическое «фи» попало на рукав.
Или хотела оставить свой след в словесности – и тоже промахнулась…
Живет друг в обычном муниципальном доме, где цветы и ковры в холле. Десяток велосипедов, мужских и дамских, молча льнут друг к другу, пока хозяева не спустятся с этажей…
В окнах через дорогу раздвинуты шторы.
Полумрак вокруг зеленого абажура не разгоняют язычки мерцающих свечей.
Скачет по комнате обезумевший заяц – свет телеэкрана от частой смены кадров.
Дама в пижаме склоняется к абажуру, он на низком столике – теперь солнечное затмение ее круглым задом зыбкого ореола горящей лампы.
Сцены домашней жизни, похоже, не принято особенно прятать от сторонних глаз.
Значит, и смотреть не грех, все свои, все парижане…
Утром другого дня в дверях балкона та же, решил он, дама, в голубом халате.
Пятернями забрала назад длинные волосы, открыв лицо… мужчины.
Он ушел в черный квадрат комнаты, за пластиковой, оказалось, бутылью.
Через ажурный чугунный бортик поливает цветы, лишняя вода прерывисто трассирует каплями вниз.
Снова скрылся в квадрате.
Там лег, или сел на его границе, теперь рука с сигаретой появляется и исчезает на черном фоне – «разговаривает» с кем-то в глубине помещения.
Сюжет окончательно запутал фокус, когда из того же пространства возник негр в белой майке – крупно кусает от длинного батона, жадно прихлебывает из желтой кружки, по-хозяйски оглядывает улицу.
Может, владелец двухместного кабриолета?
С откинутым верхом простоял внизу ночь – ну, не чудо ли, еще одно, Парижа?
Впрочем, все же свои…
…Можно спрятать шарф в сумку, если мадмуазель лишена воображения.
Но скользящая на роликах устроила его бантом рюкзака; красный хвост празднично вьется следом.
Девице мало победного полета, еще перекатывает матового стекла шар, с ладони к плечу и обратно – Жанна Д’Арк, играет пушечным ядром на пути к баррикадам.
У площади Сен-Жермен тротуарный блюз женщин: кларнет, саксофон, «ударница», джазового, разумеется, труда.
Танго «Маленький цветок» не сразу узнал.
И догадался: джаз – когда импровизируют вразнобой, но все об одном…
Армстронг прав: если спрашивать, что такое джаз, никогда этого не узнаешь.
В лавке крепкий цветочный настой.
Видел здесь всех, ее не было – выпорхнула из цветов, как бабочка.
В руках горшок с крошечными розами. «Правда, хороши?» – спросили ее глаза, естественно, по-французски. Ответил, беззвучно улыбаясь, тоже глазами, по-русски: «Да, правда, но вы хороши необыкновенно».
В тесном проходе не разминуться.
С трудом разошлись.
А зря.
Всегда бы помнить, половинки божьего замысла обречены на поиск друг друга, да редко счастливо встречаются, что тоже в замысле, и коварно.
…Но однажды ищем и вспоминаем во сне единственную женщину – маму. Ради ничтожных, случайных дам, не замечая достойных, из коварства того же замысла, заставляли ее плакать.
Имен не помним, думать забыли.
А слезы те все жгут.
…Гигантский квадрат ее опор, как подножье космического корабля, всегда готового к пуску.
Лениво, кажется, ворочают сами себя огромные колеса подъемников.
Стальные переплеты корпуса подсвечены желтыми лучами, и навстречу течет вязь золотых конструкций, слегка кружа голову.
На первой смотровой площадке палуба долго не может прибиться к причалу. Дергает – выше, ниже.
От этих конвульсий взвизгивают и ахают дамы.
Так в шторм корабль с трудом швартуется высадить пассажиров на качающийся берег; или встряхивают мешок, чтоб больше вошло.
Теперь пересадка – лифт ко второй ступени корабля.
Очередь здесь короче. Выше стремится, в основном, молодежь, шумно предвкушая полет к небу. Где море огней отхлынуло к горизонту, подальше от центра.
Он освещен скромно.
Световая реклама не агрессивна.
Лишь по каналам главных улиц текут реки автомобильного света и огромный огненный хула-хуп неспешно вокруг Триумфальной арки…
Как и положено главному маяку порта, его морские прожектора ведут круговой луч: каждый в своем сегменте подхватывает эстафету и скользит по охре ближних крыш, будто режет в ночи крупные куски пирога с шоколадной корочкой.
В ярко освещенной каюте Александр Гюстав Эйфель.
Одет просто, скромно умостился на краешке стула.
Застенчиво и почтительно тянет руку к фонографу, подарку Эдисона.
Денди лондонский, тот в светлом костюме последней моды.
Высокие ботинки желтой кожи.
Сигара в пальцах, нога на ногу, развалился в кресле.
Подобно современникам тоже находит эту городскую каланчу, железную даму, пошлой безделицей, глупым и бессмысленным нагромождением металла.
А глупышка шагает себе символом Парижа, славя своего создателя…
Которому автор присвоил звание «капитан порта Париж».
Над каютой Эйфеля в небе странная конструкция.
Может, ее ради и вся затея?
Металлические нити тянутся к звездам и по сторонам света; закручены в спирали, спутаны в мистический колтун – загадочная антенна шлет сигналы родственным душам?
Бесплатный Лувр не бесплатный сыр.
Попасть под купол стеклянной пирамиды – помайся-ка в длинной очереди, пока, наконец, ряды блестящих турникетов гигантской мышеловки бросят на конвейер эскалатора и опустят в чрево музея.
Подземное чистилище, пардон, кошельков магазинами, салонами, ресторанами. Увидеть Мону Лизу жаждет не рыхлая одиночная очередь, как у входа в Лувр, но плотная масса тел в отведенном ей коридоре из коричневых ленточек, где людей закручивают в ряды спиралей.
И в этих змеевиках, как на керамике старых электроплиток, они медленно и тупо движутся встреч друг другу, что походит на странный групповой танец.
А мимо Моны, забранной под стекло, уже не останавливаются, тянут шеи, разглядеть.
У Венеры Милосской тоже густо, но тут лишь плотное полукольцо тонких ценителей.
Вспышками фотокамер слепят друг друга, «стреляют» снизу, справа, слева, терпеливо кладут на видео.
Этакие папарацци вокруг принцессы Дианы.
Разглядывать будут, очевидно, потом, по возвращении домой – «эпоха ксерокса, сэр»…
Не столько циник, сколько патологоанатом с комплексом садиста, этот странный художник…
Будто ему мало рабочей занятости профессией.
Желает длить мгновения восхитительного общения с изуродованными клиентами, у которых расплющены лица, расколоты черепа, оторваны носы и уши, тела скрючены в пламени, раздавлены упавшими стенами, истерзаны взрывами.
Но, может, он пророчествует?
И в дорогих рамах препарированные пресервы будущей действительности подносит на блюде больших полотен в благостной тиши музейных залов?
А публике уже мало такой пищи на телеэкране – смакует, солидно от одной расчлененки к другой…
Вернисажный бомонд музея Майоля – тонкие парфюмы, галстуки и драгоценности.
Причесан и побрит, сдержанны жесты и манеры. Перемещается по зале как бы не случайно, с достоинством, виртуозно и ловко – так ножом и вилкой находят кусочкам говядины кратчайший путь к горчице на краю тарелки.


