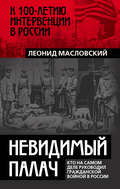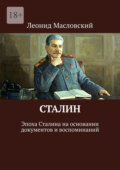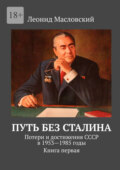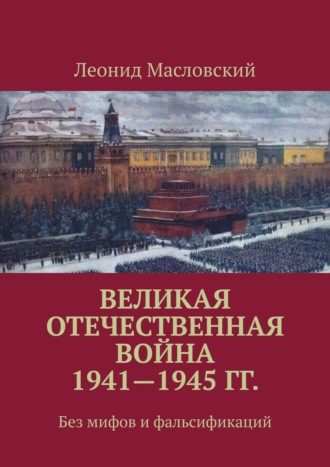
Леонид Масловский
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Без мифов и фальсификаций
3.4 Решение о создании АДД
Главная роль в создании АДД принадлежит И. В. Сталину. Главный маршал авиации следующим образом описывает свою первую встречу со Сталиным, на которой решались вопросы формирования АДД.
«Здравствуйте, – сказал Сталин, подходя ко мне и протягивая руку.
– Мы видим, что вы действительно настоящий лётчик, раз прилетели в такую погоду. Мы вот здесь, – он обвёл присутствующих рукой, – ознакомились с вашей запиской, навели о вас справки, что вы за человек. Предложение ваше считаем заслуживающим внимания, а вас считаем подходящим человеком для его выполнения.
Я молчал. Эта совершенно неожиданная встреча всего лишь через несколько считанных дней после того, как я написал записку, ошеломила меня. Конечно, я знал, что на всякое обращение должен быть какой-то ответ, но такой быстрой реакции, да ещё лично самого адресата, даже представить не мог. Впоследствии оказалось, что такому стилю работы следовали все руководящие товарищи.
– Ну, что вы скажете?
Сказать мне было нечего. Я совершенно не был готов не только для разговора на эту тему со Сталиным, но довольно смутно представлял себе и саму организацию дела. Что нужно делать, я, конечно, знал, а вот как всё организовать, абсолютно не представлял себе.
Сталин, не торопясь, зашагал по ковру. Возвращаясь назад и поравнявшись со мной, он остановился и спокойно сказал:
– У нас нет, товарищ Голованов, соединений в сто или сто пятьдесят самолётов. У нас есть эскадрильи, полки, дивизии, корпуса, армии. Это называется на военном языке организацией войск. И никакой другой организации придумывать, кажется, не следует.
Говорил Сталин негромко, но чётко и ясно, помолчав, опять зашагал по кабинету, о чём-то думая. Я огляделся и увидел за столом ряд известных мне по портретам лиц, среди которых были Молотов, Микоян, Берия, маршал Советского Союза Тимошенко, которого я знал по Финской кампании как военачальника, успешно завершившего боевые действия и ставшего после этого наркомом обороны. Были здесь также маршалы Будённый, Кулик и ещё несколько человек, которых я не знал. Видимо, шло обсуждение каких-то военных вопросов. Маршал Тимошенко был в мундире. Не дождавшись от меня ответа, Сталин, обращаясь к присутствующим, спросил:
– Ну, как будем решать вопрос?
Не помню точно, кто именно из присутствующих предложил организовать армию, другой товарищ внёс предложение начинать дело с корпуса. Сталин внимательно слушал и продолжал ходить. Наконец, подойдя ко мне, он спросил:
– Вы гордый человек?
Не поняв смысла вопроса, я ответил, что в обиду себя не дам. Это были первые слова, которые я в конце концов произнёс.
– Я не об этом вас спрашиваю, – улыбнулся Сталин.
– Армия или корпус, – сказал он, обращаясь к присутствующим, – задавят человека портянками и всякими видами обеспечения и снабжения, а нам нужны люди, организованные в части и соединения, способные летать в любых условиях. И сразу армию или корпус не создашь. Видимо, было бы целесообразнее начинать с малого, например, с полка, но не отдавать его на откуп в состав округа или дивизии. Его нужно непосредственно подчинить центру, внимательно следить за его деятельностью и помогать ему.
Я с удивлением и радостью слушал, что говорит Сталин. Он высказал и предложил то лучшее, до чего я сам, может быть, не додумался бы, а если бы и додумался, то едва ли высказал, потому что это были действительно особые условия, претендовать на которые я бы никогда не посмел.
Поглядев на меня, Сталин опять улыбнулся: мой явно радостный вид, который я не мог скрыть, говорил сам за себя.
– В этом полку нужно сосредоточить хорошие кадры и примерно через полгода развернуть его в дивизию, а через год – в корпус, через два – в армию. Ну а вы как, согласны с этим? – подходя ко мне, спросил Сталин.
– Полностью, товарищ Сталин!
– Ну, вот вы и заговорили. – Он опять улыбнулся.
– Кончайте ваше вольное казачество, бросайте ваши полёты, займитесь организацией, дайте нам ваши предложения, и побыстрее. Мы вас скоро вызовем. До свидания.
Ушёл я от Сталина как во сне. Всё решилось так быстро и так просто. Выйдя из здания и оглядевшись, я увидел прямо перед собой историческую Кремлёвскую стену. Не сразу сориентировался, пришлось спросить, где Спасские ворота. Пошёл домой пешком. На Красной площади услышал бой кремлёвских курантов на Спасской башне. Пробило восемь. Прошло три часа с момента прилёта в Москву. Всего три часа, а какой поворот в жизни!» [47, с. 37—39].
Так было принято решение о создании авиации дальнего действия, которую после войны навали авиацией стратегического назначения.
3.5 Вторая встреча А. Е. Голованова со Сталиным
Именно для того, чтобы истребить советских людей, шли на Восток летом 1941 года бронированные дивизии Гитлера и, слава Богу, что им противостояли не изнеженные обыватели, не граждане с гражданством многих стран под названием «новые русские», не коррумпированные чиновники, а сильные люди, такие как А. Е. Голованов.
Он являлся одним из немногих военачальников, которые не только непосредственно подчинялись Сталину, но и по несколько раз в неделю являлись к нему с докладом. Перед Головановым, человеком честным и чистым, Сталин не скрывал своих мыслей и переживаний.
Вот как описывает Голованов свою вторую встречу со Сталиным.
«Через день меня вызвали в Кремль.
– Ну, что надумали? – спросил Сталин, подходя и здороваясь.
Я кратко изложил свои мысли, сказав, что полк нужно формировать из лётчиков Гражданского воздушного флота, хорошо владеющих элементами слепого полёта, так как срок шесть месяцев весьма мал, а удлинять его, как я понял, не следует.
– Эта мысль неплохая, – заметил Сталин. – Ну а кто же, по-вашему, будет заниматься прокладкой маршрута, бомбометанием, связью?
Я понял, что веду разговор с человеком, который прекрасно разбирается в лётных делах и знает, что к чему.
– Ну, хорошо, – продолжал Сталин, – лётчик, конечно, основа – главное лицо в экипаже, но ведь один он летать на дальние цели не может! Значит, ему нужны помощники. Есть у вас в Аэрофлоте штурманы? Нет! Есть у вас стрелки-радисты? Тоже нет. Ну, что вы скажете?
Было очевидно, что вопрос о формировании полка мной до конца не продуман. Увлёкшись одной, как мне думалось, главной стороной организации полка, совсем забыл о других, не менее важных.
Простота обращения Сталина ещё к концу первой встречи с ним сняла у меня внутреннее напряжение. И сейчас тон его разговора не был тоном наставника, который знает больше тебя. Он как бы вслух высказывал свои мысли и советовался со мной.
– Верно, товарищ Сталин, – ответил я. – Я об этом как-то не подумал. А что, если штурманов и радистов взять из ВВС, а лётчиков – из ГВФ? Неплохо будет?
– А если командиров эскадрилий и штаб укомплектовать военными товарищами, будет ещё лучше, – улыбаясь, добавил Сталин. – Да и заместителя вам нужно взять военного. Вам нужно вплотную заниматься главным, основным, для чего мы всё это затеваем. Остальными делами пусть занимаются ваши помощники.
Слушая Сталина, я понял, что он высказывает мысли, возникшие у него не только что, а значительно раньше нашего разговора.
– Ну так как? Договорились?
– Договорились, товарищ Сталин, – ответил я, стараясь сохранить серьёзность, сдержать улыбку.
– Ну вот и хорошо! Сейчас мы попросим товарищей из ВВС и ГВФ, посоветуемся с ними и решим этот вопрос…» [47, с. 42—43].
После встречи со Сталиным А. Е. Голованова принял заместитель начальника Главного управления ВВС генерал И. И. Проскуров, который был уже в курсе всех дел. К удивлению Голованова, он искренне одобрил его записку, но сказал, что Голованову придётся довольно трудно с организацией такой части, на особую поддержку рассчитывать нечего – только на свою энергию.
Во время одного из довоенных докладов, Сталин обратился к Голованову и сказал:
– Вам, как и всякому военному, нужно твёрдо знать, для чего, для каких операций вы будете готовить кадры, поэтому я хочу кое-что вам сказать.
Он подошёл к карте. Я последовал за ним.
– Вот видите, сколько тут наших противников, – указывая на западную часть карты, сказал Сталин. – Но нужно знать, кто из них на сегодня опаснее и с кем нам в первую очередь придётся воевать. Обстановка такова, что ни Франция, ни Англия с нами сейчас воевать не будут.
С нами будет воевать Германия, и это нужно твёрдо помнить. Поэтому всю подготовку вам следует сосредоточить на изучении военно-промышленных объектов и крупных баз, расположенных в Германии, – это будут главные объекты для вас. Это основная задача, которая сейчас перед вами ставится.
Уверенный, спокойный тон Сталина как бы подчёркивал, что будет именно так, а не иначе. О договоре, заключённом с Германией, не было сказано ни слова.
– Всё ли вам ясно?
– Абсолютно всё, товарищ Сталин.
– Ну, желаю вам успеха. До свидания!
Ушёл я в приподнятом настроении. Этому были две причины. Первая та, что, видимо, завтра я получу приказ о формировании полка и смогу, наконец, улететь и приступить к выполнению намеченного плана боевой подготовки.
Вторая – более важная: за несколько посещений Кремля я увидел, какая огромная и интенсивная работа ведётся партией и правительством по перевооружению нашей армии под прямым и непосредственным руководством Сталина и с какой быстротой претворяются в жизнь все решения Кремля.
На другой день я получил приказ о формировании полка и присвоении мне воинского звания подполковника» [47, с. 51].
Через пять месяцев после начала создания АДД началась война. Среди лётчиков, бомбивших немецкие войска в первый день войны, был и А. Е. Голованов со своим полком. 30 июня 1941 года полк потерял 11 самолётов, но командира полка – лётчика Голованова – его высочайшее лётное мастерство и судьба нам сохранили.
Участвовал полк, а затем дивизия в боях под Ельней, Смоленском, Киевом, Москвой, бомбил немецкие части, доставлял в Ставку разведданные о расположении фронтов, местонахождении советских войск и войск противника.
А. Е. Голованову была передана в подчинение дивизия М. В. Водопьянова, который, будучи выдающимся лётчиком, не смог организовать требуемый уровень боевых действий дивизии, в частности, успешные, без больших потерь, налёты на Берлин.
В первые дни, недели и месяцы войны пилоты летали на пределе своих сил. Лётчики валились с ног. Спали прямо под плоскостями самолётов, пока техники подвешивали бомбы и заправляли горючим машины.
У лётчиков АДД никогда не было затишья в боевых действиях, так как они взлетали с бетонированных взлётно-посадочных полос в любое время суток и бомбили противника на всех фронтах. То есть они не имели перерывов в выполнении боевых заданий, как, например, лётчики фронтовой авиации по причине размокшей ВПП, времени суток, сложных метеоусловий, неведения боевых действий фронтом, в состав которого входили.
АДД, как сказано ранее, уже летом 1941 года не только бомбила немецкие войска на нашей территории, но постоянно ночами бомбила Кенигсберг, Данциг, Берлин и другие города Германии и её союзников в Европе.
Глава 4
Накануне войны
4.1 Где хранилось оружие для Красной Армии
Несмотря на принятие до войны массы разумных решений, в конечном счёте приведших СССР к победе, обществу навязаны мифы, не имеющие ничего общего с действительностью того времени. Наряду с другими мифами населению России внушили миф о том, что якобы воинские склады СССР были расположены вдоль западной границы, и поэтому якобы в первые недели войны основное количество имеющегося в стране военного имущества попало в руки врага.
Непонятно, почему российский читатель так легко верит всему негативному, что написано о советском времени. Вполне вероятно, что он считает руководителей того времени ненормальными людьми, ибо нормальный человек не будет размещать основное количество воинских складов вдоль границы.
Подобные небылицы и сочиняются для того, чтобы читатель не уважал свой народ и своё правительство. В действительности решения руководителей того времени были обоснованы и разумны.
В первом эшелоне, то есть до ста километров от границы, находилось 43% советских войск. Эти войска надо постоянно снабжать оружием, боеприпасами, запасными частями, горюче-смазочными материалами, обмундированием, продовольствием. Для этой цели в месте расположения войск организовывались склады. На этих складах хранилось несколько процентов от военного имущества страны. Склады стратегического значения к границе никогда не выносились – почти все воинские запасы всегда хранились в глубоком тылу.
К тому же складов, расположенных у западной границы, не хватало для хранения ГСМ и имущества, необходимого находящимся в первом эшелоне войскам. Фактически в Западном военном округе хранилось материально-технических ценностей меньше, чем должно было храниться. «То есть, напротив, значительная часть запасов находилась вдали от границ… Склады центрального подчинения в основном находились в Московском военном округе, на втором месте – Приволжский военный округ» [67, с. 179].
Как следует из вышеизложенного, потери оружия и боеприпасов на складах у западной границы не могли значительно повлиять на обеспечение армии. В качестве доказательства того, что Красная Армия имела в 1941 году оружие и боеприпасы, А. В. Исаев приводит пример: «В ДСП издании «Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны» (М.:Воениздат, 1961) есть цифры полных потерь и расхода снарядов за июнь – декабрь 1941 года. Цифры такие:
• 45-мм снарядов – 7 млн. 130 тыс. – или 28% от наличия на 22.06.1941 г.;
• 76-мм снарядов – 7 млн. 777 тыс. – или 30% от наличия на 22.06.1941 г.;
• 122—203-мм – 3 млн. 900 тыс. – или 31% от наличия на 22.06.1941 г.;
• 50—120-мм мин – 4 млн. 744 тыс. – или 35% от наличия на 22.06.1941 г.;
• зенитных снарядов – 7 млн. 360 тыс. – или 35% от наличия на 22.06.1941 г.
Примерно половина этого количества – расход в боях, остальное – потери. В среднем потери и расход превысили поступление в 1941 году в 1,7 раза. Как можно видеть, до истощения складов было далеко, потеряно и израсходовано было в среднем 30% запасов» [67, с. 180]. То есть за время боевых действий в течение 1941 года было израсходовано менее одной трети снарядов, хранившихся и поступивших в 1941 году.
На основании указанных сведений видны и другие сведения, а именно, что Красная Армия в 1941 году произвела по напавшим на Советский Союз войскам Германии и её союзников следующее количество выстрелов:
• из 45-мм орудий и танковых пушек примерно 3 миллиона 565 тысяч выстрелов;
• из 76-мм орудий и танковых пушек – 3 миллиона 888 тысяч выстрелов;
• из зенитных орудий – 3 миллиона 680 тысяч выстрелов и т. д.
Похоже это на действия безоружной, в панике бегущей армии? Нет. А чтобы произвести указанное количество выстрелов, надо иметь не только миллионы снарядов, но и десятки тысяч орудий. И они были у Красной Армии. Вот где открывается правда и основная причина стойкости советской армиив 1941 году.
4.2 Обороняющаяся армия пассивно ждёт удара
Красную Армию обвиняют в том, что она постоянно стремилась контратаковать, наступать вместо того, чтобы создать и удерживать глубокоэшелонированную оборону. Скорее всего, авторы, которые так пишут, пытаются ввести читателя в заблуждение.
Оборона, да ещё на фронте в несколько тысяч километров (во время войны протяжённость фронта колебалась от 2,2 до 6 тысяч километров при глубине территории, охваченной боевыми действиями, до 2,5 тысяч километров и даже больше) может привести только к катастрофическому поражению.
Оборонная стратегия смерти подобна, особенно, когда на дивизию приходится более 4—8 километров полосы по фронту (ширина участка обороны). Можно надеяться удержать оборону на полосе по фронту 8—12 километров на одну дивизию. Чтобы вы не делали, меньшая плотность войск приведёт к прорыву обороны. Как показала война, «сторона, выбравшая оборонительную стратегию, неизбежно пытается играть в лотерею со смертью». [66, с. 197].
Обороняющаяся армия пассивно ждёт удара. При этом очень трудно предвидеть, в каком месте противник нанесёт главный удар. И удар, как правило, наносится в том месте, где его не ждали. На направлении главного удара противник в состоянии сосредоточить силы, в 3—10 раз превосходящие силы обороняющейся стороны, и, естественно, перед ударами такой превосходящей силы никакая оборона не устоит. А если этот удар производится двумя танковыми клиньями, то обороняющаяся армия, вероятнее всего, окажется в окружении. Часть советских войск в 1941 году оказалась окружённой под Киевом, Вязьмой и Брянском именно потому, что пыталась создать и удержать глубокоэшелонированную оборону, не имея для этого достаточного количества сил и средств.
«Оборона не является спасительным убежищем, позволяющим достигнуть успеха при небольших потерях. Это бытовое заблуждение, проистекающее из фильмов о войне» [66, с. 213—214]. Советские военачальники это, конечно, понимали, но у них не было сил и средств, достаточных для того, чтобы захватить стратегическую инициативу, и они вынуждены были обороняться и ограничиваться контратаками. Но советских военачальников часто изображают профессионально неподготовленными. Объясняют это, в частности, тем, что на высшие командные должности назначали военных, отличившихся в боях в Испании, на Халхин—Голе, в Финляндии, не считаясь с отсутствием у них опыта руководящей работы и соответствующих способностей. Естественно, возникает вопрос: «А почему надо назначать на руководящие должности ничем не проявивших себя, просидевших в тылу офицеров, а не офицеров, рисковавших жизнью, отличившихся в боях героев?»
Как показала история, войну СССР выиграл, потому что имел сотни тысяч толковых руководителей производства и военачальников. Была очень правильная оценка способностей человека. И в СССР были эти сотни тысяч способных на большую руководящую, созидательную работу людей. Это подтверждается всей историей довоенного, военного и послевоенного времени. Историей великих свершений и побед, и сотой доли которых не имеет ни одна страна мира. Жители России, потомки советских людей, как никто на земле, имеют полное, добытое в труде и бою право ходить с гордо поднятой головой. Но многие из граждан России стыдятся своей истории и сгибаются в три погибели перед «просвещённым» Западом.
4.3 Стрелковое оружие советского и немецкого солдата. Гужевая тяга
Солдата вермахта представляют с превосходством шагающим по нашей земле, а чаще – сидящим в автомобиле или мотоцикле с автоматом «МП-40». Российскому обывателю кажется чудовищно неправдоподобной сама мысль о лошади в вермахте. Советского солдата чаще изображают в солдатской шинели, шагающим с трёхлинейной винтовкой с игольчатым штыком. Созданные и внедрённые в сознание российских граждан образы совершенно не соответствуют действительности того времени, но они властвуют над умами людей.
Фактически в основном солдат вермахта шёл пешком, вооружённый винтовкой. Полностью моторизованные дивизии составляли лишь небольшую часть германской армии. Это подтверждают даже немецкие генералы. Например, Г. Блюментрит пишет: «В 1941 г. немецкая армия всё ещё состояла главным образом из чисто пехотных дивизий, которые передвигались в пешем строю, а в обозе использовались лошади. Только небольшую часть армии составляли танковые и моторизованные дивизии» [111, глава «Стратегический замысел», с. 17].
Конечно, проигравший войну немецкий генерал стремится уменьшить мощь напавшей на СССР в 1941 году Германии и её союзников. Германия имела огромное количество вооружения и средств транспорта. Но, без сомнения, автомобили в основном использовались не для перевозки пехоты, а для доставки в войска оружия, боеприпасов, обмундирования, горючего и продовольствия, перевозки раненых; а вместе танковые и моторизованные дивизии, конечно, составляли небольшую часть по сравнению с остальными дивизиями 5,5 миллионной армии Германии и её союзников, вторгшимися на территорию СССР в июне 1941 года.
В немецкой армии лошадьми перемещались все орудия артиллерийского полка пехотной дивизии. Всего в вермахте в 1941 году было свыше одного миллиона лошадей, 88% которых находилось в пехотных дивизиях.
Красная Армия на тот момент была моторизована в большей степени. В стрелковых дивизиях РККА было два артиллерийских полка, один на механической тяге, а другой на гужевой. В полках на механической тяге орудия перемещались тракторами «СТЗ-НАТИ», «С-65 Сталинец», тягачами «Т-20 Комсомолец», грузовыми автомобилями и другой техникой.
Мифы о стрелковом оружии тоже далеки от действительности. Советские военные в шутку пистолеты-пулемёты (автоматы) называли оружием для гангстеров или «полицейским» оружием. Немецкие военные тоже так считали и высказывались однозначно: «Пистолет—пулемёт непригоден для огневого боя на дистанциях, превышающих 200 метров», – а для того, чтобы победить в бою в 1941 году, надо было поражать противника стрелковым оружием, начиная с 400 метров и ранее.
Поэтому советская армия оснащалась пистолетами—пулемётами (автоматами) в ограниченных количествах, как оружием ближнего боя. То же самое надо сказать о немецкой армии.
Отношение к пистолетам-пулемётам не изменилось в немецкой армии и в начале 1943 года: в окружённой под Сталинградом армии Паулюса было захвачено войсками Донского фронта под командованием К. К. Рокоссовского вместе с другим оружием «156 987 винтовок и всего несколько более 10 тысяч автоматов» [112, с. 183]. И это притом, что в производстве автомат обходился немцам почти в два раза дешевле, чем карабин.
В советских дивизиях, встретивших немецкое вторжение у границы, пистолетов-пулемётов было довольно много, а самозарядных винтовок на порядок больше, чем пистолетов-пулемётов.
Большим достижением советских конструкторов В. Г. Фёдорова, В. А. Дегтярёва, С. Г. Симонова и Ф. В. Токарева была разработка ими самозарядной винтовки. Производство самозарядных винтовок конструкции Симонова и Токарева было поставлено на поток.
До начала войны Красная Армия получила лучшее в мире автоматическое оружие, во много раз превосходящее пистолеты-пулемёты, – более 1,5 миллионов самозарядных винтовок.
Надо отметить, что советская самозарядная винтовка «СВТ» намного превосходила аналогичное стрелковое оружие вермахта и не уступала самозарядным винтовкам США. После войны самозарядная винтовка стала самым распространённым стрелковым оружием стран НАТО.
В первый период войны в связи с эвакуацией промышленных предприятий советскому правительству недоставало средств для производства самозарядных винтовок. Немцам тоже массовое производство самозарядных винтовок оказалось «не по карману». И только США имели возможность в массовых количествах производить самозарядную винтовку.
В Красную Армию вместо самозарядных винтовок стали поставлять большее количество автоматов «ППШ» и пулемётов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что массовая позиционная война заканчивалась, в целом снизилось значение стрелкового оружия пехотинца в большой войне, и, уже имея возможность, промышленность СССР не стала возобновлять производство самозарядных винтовок. На мой взгляд, решение правильное, так как целесообразнее на эти деньги произвести орудия, танки и самолёты.
Одним из последних случаев массированного применения самозарядных винтовок относится к обороне Тулы осенью 1941 года. «СВТ» производились на Тульском оружейном заводе, в том числе в автоматическом варианте, и немедленно попадали в оборонявшие город войска. Один из немецких военнопленных, захваченных под Тулой, с округлившимися глазами рассказывал: «Мы не ожидали, что русские будут поголовно вооружены ручными пулемётами» [66, с. 124].
А. В. Исаев написал: «Самозарядная винтовка Токарева осталась почти забытой легендой. Только иногда мелькающие по ТВ солдаты „азиатских тигров“ и чернокожие бойцы очередного „фронта освобождения“ с вытертыми до блеска (самозарядными винтовками – Л. М.) „FN FAL“ напоминают о том, что могло получиться, если бы война повременила». [66, с. 131].
Ошибается тот, кто утверждает, что в начале войны советская армия не имела достаточного количества автоматического стрелкового оружия. Красная Армия имела автоматического стрелкового оружия больше, чем германская, и с более высокими боевыми характеристиками.
СССР производил не только превосходное автоматическое стрелковое оружие, но и замечательные карабины, снайперские винтовки, пистолеты и лучшую в мире винтовку Мосина образца 1891/1930 годов.