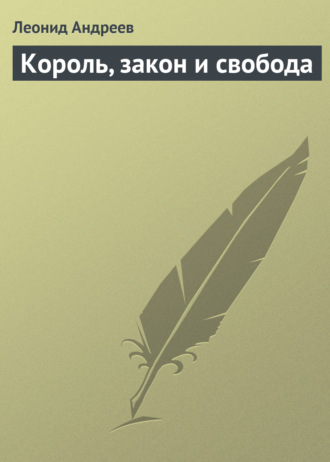
Леонид Андреев
Король, закон и свобода
Вторая картина
Приемная комната (холл) в вилле Эмиля Грелье. Все красиво и своеобразно, много воздуха, света и цветов. Большие раскрытые окна, за которыми зелень сада и цветущих кустов. Одно из окон небольшое, почти сплошь закрыто листьями разросшегося винограда.
В комнате двое: Эмиль Грелье и его старший сын Пьер, красивый, несколько излишне бледный и хрупкий молодой человек, одет в военную форму. Медленно ходят по комнате; Пьеру, видимо, хочется ходить быстрее, но из уважения к отцу он замедляет шаги.
Эмиль Грелье. Сколько километров?
Пьер. До Тирлемона километров двадцать пять – тридцать. И здесь…
Эмиль Грелье. Семьдесят четыре или пять…
Пьер. Семьдесят пять… да, километров сто. Недалеко, папа.
Эмиль Грелье. Недалеко. Я вчера слушал ночью. Мне показалось, что слышна канонада.
Пьер. Нет, едва ли.
Эмиль Грелье. Да, я ошибся. Но лучи прожекторов все же видны; вероятно, очень сильные прожекторы. И мама видела.
Пьер. Да? У тебя опять бессонница, папа?
Эмиль Грелье. Нет, я сплю. Сто километров… сто километров…
Молчание. Пьер внимательно сбоку смотрит на отца.
Пьер. Папа!
Эмиль Грелье. Да? Тебе еще рано. Пьер, – до твоего поезда три часа. Я слежу за временем.
Пьер. Я знаю, папа. Нет, я о другом… Папа, скажи, ты еще надеешься на что-нибудь?
Молчание.
Я не решаюсь, мне немного неловко высказываться в твоем присутствии, ты настолько умнее и выше меня, отец… Да, да, пустяки, конечно, но то, что я узнал за эти дни в армии, оно – видишь ли… не оставляет надежды. Они идут такой сплошной массой людей, железа, машин, орудий, коней, – что остановить их нет возможности. Мне кажется, что сейсмографы должны отмечать то место, по которому они проходят: так давят они на землю. А нас так мало!
Эмиль Грелье. Да, нас очень мало.
Пьер. Очень, очень мало, папа! Ужасно мало! Если бы мы даже были бессмертны и неуязвимы, если бы мы убивали их день и ночь, то и тогда мы скорее упадем от изнеможения и усталости, нежели остановим их. Но мы смертны… и у них ужасные орудия, папа! Ты молчишь? Ты думаешь о нашем Морисе… я сделал тебе больно?
Эмиль Грелье. В их движении мало человеческого. – О Морисе ты также не думай, он будет жив. – У человека есть лицо, Пьер. У каждого человека есть свое лицо, но там нет лиц. Когда я стараюсь представить их, я вижу только огни прожекторов, автомобили, вот эти ужасные орудия, – и что-то идет, что-то идет. И еще эти пошлые усы Вильгельма, – но ведь это маска, неподвижная маска, которая четверть века стоит над Европой… что за нею? Эти пошлые усы – и вдруг столько несчастья, столько крови и разрушения! Нет, это маска.
Пьер (почти про себя). Если бы не так много их, не так много… Мне самому кажется, папа, что Морис останется жив. Он счастливый мальчик. А мама что думает?
Эмиль Грелье. Мама что думает?
Входит Франсуа и угрюмо, ни на кого не глядя и не кланяясь, начинает поливать цветы, поправлять их.
А что думает вот этот? Посмотри на него.
Пьер. Он совсем плохо слышит, Франсуа!
Эмиль Грелье. Я не знаю, слышит он что-нибудь или нет. Однажды он слышал. Но он молчит, Пьер, и с бешенством отрицает войну, отрицает ее работой – один он работает в саду так, как будто ничего не случилось. Наш дом полон беглецов, все в доме и мама хлопочут, кормят их, моют детей – мама моет, – он как будто не видит ничего. Отрицает! Теперь он разрывается от натуги, стараясь услыхать или догадаться, о чем мы говорим, но видишь, какое у него лицо! А если ты попробуешь заговорить с ним, он уйдет.
Пьер. Франсуа!
Эмиль Грелье. Оставь его, ему хочется быть хитрым. Может быть, он и слышит… Ты спрашиваешь, что думает мама, – а разве я знаю и кто-нибудь знает? Ты видишь, что ее здесь нет, а ведь это твои последние часы в этом доме… да, в этом доме, я про дом говорю. Она так же молода и решительна, как всегда, она так же сильно движется и так же ясна, но ее нет. Просто ее нет, Пьер.
Пьер. Она скрывает?
Эмиль Грелье. Нет, она ничего не скрывает, но она ушла в такую глубину себя, где все молчание и тайна. Она переживает все свое материнство, с самого начала, понимаешь? – когда вы с Морисом еще не родились, но при этом она хитрит, как и Франсуа. Иногда я ясно вижу, что она страдает нестерпимо, что она полна ужаса перед войной… но она улыбается в ответ, и тогда я вижу другое: что в ней вдруг ожила какая-то доисторическая женщина, та, что подавала мужу боевую палицу… Но, погоди, опять идут солдаты!
Вдали военная музыка. Приближается.
Пьер. Да, по расписанию это девятый полк, Эмиль Грелье. Послушаем, Пьер. Я несколько раз в день слышу эту музыку. Там, направо, начинается и вон там затихает. Вое там.
Слушают.
Но они молодцы!
Пьер. Да.
Оба у окна внимательно слушают; Франсуа искоса смотрит на них и также тщетно старается что-нибудь услышать. Приблизившись, музыка начинает стихать.
Эмиль Грелье (отходя от окна). Вчера они играли марсельезу. Но они молодцы!
Быстро входит жена Эмиля Грелье.
Жанна. Вы слышите? Как красиво! Даже наши беглецы улыбнулись, слушая. – Эмиль, я принесла телеграммы, вот, Я уже прочла.
Эмиль Грелье. Ну что же ты! Давай!
Читая, ощупью находит кресло, садится. Бледнеет.
Пьер. Ну что, папа́?
Эмиль Грелье. Читай!
Пьер читает через плечо отца. С загадочным выражением смотрит на них женщина. Сидит, закинув все еще красивую, крупную голову совсем спокойно. Эмиль Грелье быстро встает, и оба с сыном начинают ходить в различных направлениях по комнате.
Пьер (сквозь зубы). Ты видишь?
Эмиль Грелье (так же). Да.
Пьер. Нет, ты видишь?
Эмиль Грелье. Да! Да!
Жанна (как бы равнодушно). Эмиль, это была интересная библиотека, которую они сожгли?[3] Я не знаю.
Эмиль Грелье. Да. Очень. – Но что ты спрашиваешь, Жанна! Как ты можешь говорить!
Жанна. Нет, я только потому, что это книги. Скажи, там много было книг?
Эмиль Грелье. Да, много, много!
Жанна. И их сожгли? (Напевает негромко свежим и сильным голосом.)…Лишь ореол искусств венчает – закон, свободу, короля! Закон…
Эмиль Грелье. Книги, книги.
Жанна. И там еще был собор, о, я его помню. Не правда ли, Эмиль, это было красивое здание? (Напевает.) Закон, свободу, короля…
Пьер. Папа́!
Эмиль Грелье. Что?
Ходит.
Жанна. Пьер, тебе скоро уходить. Я сейчас дам тебе покушать. Как ты думаешь, Пьер, это правда, что они убивают женщин и детей? Я еще не знаю.
Пьер. Правда, мама.
Эмиль Грелье. Что ты говоришь, Жанна! Ты не знаешь!
Жанна. Нет, я только потому, что это дети. Да, там пишут, что и дети, там это пишут. И все уместилось на этой бумажке: и дети, и огонь…
Быстро встает и уходит, напевая.
Эмиль Грелье. Куда ты, Жанна?
Жанна. Я так, Франсуа, ты слышишь: они убивают женщин наших и детей. Франсуа! Франсуа!
Не оборачиваясь, угрюмо согнув спину, Франсуа выходит. Все смотрят ему вслед. Со странной полуулыбкой Жанна идет в другие двери.
Пьер. Мама́!
Жанна. Я сейчас вернусь.
Эмиль Грелье и Пьер одни.
Эмиль Грелье. Как их назвать? Нет: как их назвать? Милый мой Пьер, мальчик мой – как мне их назвать?
Пьер. Ты очень волнуешься, папа…
Эмиль Грелье. Я думал всегда, я был уверен, что слово мне подвластно, но вот я стою перед этим чудовищным, непонятным, и я не знаю, и я не знаю: как их назвать? Сердце мое кричит, я слышу его голос – но слово! Пьер, ты студент, ты еще мальчик, твоя речь непосредственна и чиста – Пьер, найди мне слово!
Пьер. Мне ли его найти, папа? Да, я был студентом и тогда я знал еще какие-то слова: мир, право, человечность, но теперь ты видишь! Сердце мое также кричит, но как назвать этих негодяев, я не знаю. Негодяи? Но этого мало. (С отчаянием.) Все мало!
Эмиль Грелье. Ты видишь: все мало? Пьер, это решено.
Пьер. Решено?
Эмиль Грелье. Да. Я иду.
Пьер. Ты, папа́?
Эмиль Грелье. Уже несколько дней я решил это, еще тогда, в самом, кажется, начале; и, право, не знаю, почему я… Ах да: мне надо было преодолеть в себе нечто… мою любовь к цветам. (Иронически.) Да, Пьер, мою любовь к цветам. Ах, мой мальчик: ведь так трудно перейти от цветов к железу и крови!
Пьер. Папа́! Я не смею возражать тебе…
Эмиль Грелье. Да, да, ты не смеешь, не надо. Послушай, Пьер, мне необходимо, чтобы ты освидетельствовал меня как врач.
Пьер. Я еще только студент, папа.
Эмиль Грелье. Да, но ты знаешь достаточно, чтобы сказать… Видишь ли, Пьер, я не должен обременять нашу маленькую армию одним лишь больным и слабым человеком. Не правда ли? Я должен принести с собою силу и крепость, а не расстроенное здоровье. Не правда ли? И я прошу тебя, Пьер, освидетельствуй меня, просто как врач, как молодой врач. Но мне с тобою немного неловко… Я должен это снять или можно и так?
Пьер. Можно и так.
Эмиль Грелье. Я думаю, что можно… И… я должен тебе рассказывать все или?.. Скажу, во всяком случае, что у меня не было никаких серьезных болезней, и для моих лет я вообще довольно здоровый и крепкий человек. Ты знаешь, как я живу…
Пьер. Этого не нужно, папа.
Эмиль Грелье. Нет, нужно, ты врач. Я хочу сказать, что в моей жизни не было тех вредных… и дурных излишеств… О, черт возьми, как это, однако, трудно!
Пьер. Папа, я ведь знаю!
Быстро целует у отца руку. Молчание.
Эмиль Грелье. Но пульс необходимо послушать, Пьер, я тебя прошу!
Пьер (слабо улыбаясь). Да и этого не надо. Как врач я могу сказать тебе, что ты здоров, но… ты негоден для войны, ты негоден, папа! Я слушаю тебя, и мне хочется плакать, мне хочется плакать, папа!
Эмиль Грелье (задумчиво). Да. Да. – Но, может быть, и не надо плакать. Ты думаешь, Пьер, что я, Эмиль Грелье, ни в каком случае и никогда не должен убивать?
Пьер (тихо). Я не смею касаться твоей совести, папа.
Эмиль Грелье. Да, это страшный для человека вопрос. Нет, я должен убивать, Пьер. Конечно, я мог бы взять ваше ружье, но не стрелять – нет, это была бы гадость, Пьер, кощунственный обман! Когда мой кроткий народ осужден, чтобы убивать, то кто я, чтобы сохранить мои руки в чистоте? Это была бы подлая чистота, Пьер, гнусная святость, Пьер! Мой кроткий народ не хотел убивать, но его вынудили, и он стал убийцей – ну, значит, и я стану убийцей вместе с ним. И на чьи же плечи возложу я грех: на плечи юношей наших и детей? Нет, Пьер. И если когда-нибудь Высшая Совесть мира позовет к страшному ответу мой милый народ, позовет тебя, Мориса, моих детей, и скажет вам: «Что вы сделали? Вы убивали!» – я выйду вперед и скажу: суди меня сначала, я также убивал, – а Ты знаешь, что я честный человек!
Пьер сидит неподвижно, закрыв лицо руками. Входит Жанна, ее не замечают.
Пьер (открывая лицо). Но ты не должен сам умирать! Ты не имеешь права!
Эмиль Грелье (громко и презрительно). Ах, это!
Оба видят Жанну и умолкают. Жанна садится и говорит все с тем же странным, как будто веселым спокойствием.
Жанна. Эмиль, она опять пришла.
Эмиль Грелье. Да? Она опять пришла. Где она была две эти ночи?
Жанна. Она сама не знает. Эмиль, платье и руки ее были в крови.
Эмиль Грелье. Она ранена?
Жанна. Нет, это не ее кровь, а по цвету я не могла разобрать, чья.
Пьер. Кто это, мама?
Жанна (неопределенно). Девушка одна. Так. Безумная. Теперь я причесала ее и надела чистое платье. У нее прекрасные волосы. – Эмиль, я кое-что слыхала: ты хочешь также идти?
Эмиль Грелье. Да.
Жанна. Туда, где твои дети, Эмиль?
Эмиль Грелье. Да, Пьер освидетельствовал меня и нашел, что я могу стать в ряды.
Жанна. Ты думаешь завтра идти, Эмиль?
Эмиль Грелье. Да.
Жанна. Да. Сегодня ты не успеешь. А тебе осталось всего полтора часа, Пьер.
Молчание.
Пьер. Мама! Скажи ему, что он не смеет… прости, папа, – что он не должен идти. Не правда ли, мамочка? Скажи ему. Он отдал народу двух сыновей – и что же еще? Остального он не смеет.
Жанна. Остального, Пьер?
Пьер. Да – своей жизни. Ты его любишь, ты сама умрешь, если его убьют, – скажи ему, мама.
Жанна. Да, я люблю. Вас я также люблю.
Пьер. О, что такое мы, Морис и я! Но он… Как не смеют на войне разрушать храмы и сжигать библиотеки, как не смеют касаться вечного, так и он… он… не смеет умирать. Я говорю не как сын твой, нет – но убить Эмиля Грелье, ведь это хуже, чем сжечь какую-то книгу! Послушайте меня, вы, родившие меня, послушайте! хотя я юноша и должен был бы молчать… Послушайте! Они уже ограбили нас – как жестоко, как подло они ограбили нас. Они лишили нас земли и воздуха, они лишили нас сокровищ, которые создал Гений нашего народа, – и теперь мы сами бросим в ихнюю пасть наших лучших людей! Что это? Что же останется тогда у нас? Пусть убьют нас всех, пусть в дикую пустыню обратится земля и в огне выгорит всякое дыхание жизни, но пока он жив – Бельгия жива! А что без него?.. Ах, да не молчи же, мама! Скажи ему!
Молчание.
Эмиль Грелье (с некоторой суровостью). Успокойся, Пьер.
Жанна. Вчера я… Нет, Пьер, я не о том – о том я ничего не знаю. Как могу я знать? Но вчера я – у нас здесь уже трудно найти овощи и даже хлеб, и я ездила в город, но почему-то мы поехали не туда, а ближе к сражению… Как это странно, что мы оказались там! И вот я увидела их, они шли…
Эмиль Грелье. Кто?
Жанна. Наши солдаты. Они шли оттуда, где четыре дня было сражение, и их было немного, ну как – сто или двести. Все, что осталось. Но мы все, на улице еще было много народу, мы все отодвинулись к стене, чтобы дать им дорогу – Эмиль, подумай, как странно: они не видели нас и могли наткнуться. Они были черные от дыма, от грязи, от засохшей крови и шатались от усталости. И все очень худые, как в чахотке. Но это ничего, это все ничего, а вот глаза… что это такое, Эмиль? В них не было окружающего, в них все еще стояло отражение того, что видели они там: все еще огонь, все еще дым и смерть – и что еще? Кто-то сказал: вот люди, которые возвращаются из ада. Но они не слыхали. Мы все кланялись им – кланялись им, но они не видели и этого. Так может быть, Эмиль?
Эмиль Грелье. Да, Жанна, может быть.
Пьер. И в этот ад пойдет он?
Молчание. Эмиль Грелье подходит и молча целует руку у жены, та смотрит с улыбкой на его голову. Но вдруг встает.
Жанна. Прости, мне еще надо сказать…
Идет быстро и легко, но вдруг, точно споткнувшись на невидимое препятствие, падает на одно колено. Пробует подняться, но падает на другое. Бледная, но все еще улыбаясь, медленно клонится на бок. К ней бросаются и поднимают ее.
Пьер. Мама! Мама!
Эмиль Грелье. У тебя закружилась голова? Жанна милая… что с тобой?
Она отталкивает их, стоит твердо, старается скрыть сильную дрожь рук.
Жанна. А что такое? Что? Пусти же меня, Эмиль. Голова? – нет, нет. Просто подвернулась нога, знаешь, эта, которая болела… Видишь, я уже иду.
Эмиль Грелье. Стакан воды, Пьер.
Жанна. Зачем? Как все нелепо.
Но Пьер уже вышел. Жанна садится, опускает голову, как виноватая, старается не смотреть в глаза.







