
Леонид Андреев
Иуда Искариот
Что видела галка
Из рождественских мотивов
Над бесконечной снежною равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями, летела галка. Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны сливавшееся в дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только что зашло солнце, замирали последние отблески заката, галке был еще виден багряно-красный, матовый шар опускавшегося солнца, но внизу уже густел мрак зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз, – серело поле, окованное крепким, жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха слабо нарушалась, гоня холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному, только ей видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и ночной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла уже густого леса, смутно черневшего на белой поляне. Слышно было вверху, как от мороза потрескивали деревья, распластавшие свои ветви, отягченные сыпучим, мелким снегом. Захрустели сучки под осторожною ногою какого-то лесного зверя, выходившего на добычу. Из темной дали донеслись до галки унылые, жуткие звуки волчьего воя, протяжного, дикого. Крутым поворотом галка изменила направление полета, напрягая последние силы, понеслась туда, где, она чувствовала, находится проезжая дорога.
Она любила человеческое общество, и лесная глушь была ей неприятна.
Вот и дорога. Ее можно узнать по темным, душистым кучкам лошадиного помета, которым галка не преминула бы воспользоваться, если бы ей не хотелось так сильно спать. Невдалеке чернелись перила моста над глубоким, но теперь невидимым оврагом. Галке овраг этот был знаком по тому горькому разочарованию, которое он ей доставил. Не более как год тому назад, в эту же самую пору, ей удалось выклевать глаза, поразительно вкусные глаза, у какого-то молодого черноусого молодца. Несмотря на холод, он, догола раздетый, спокойно лежал на крепком, подмерзшем снегу. Из разбитой головы еще сочилась густая, красная кровь. Только слегка шевельнувшийся мизинец показал галке, что она несвоевременно принялась за работу и клюет зрячие глаза, – но подобные пустяки не могли смутить птицу, привыкшую к человеческому обществу. На другой день она, пригласив несколько знакомых галок, вернулась, чтобы поосновательнее перекусить, и каково же было негодование ее и ее подруг, когда, вместо подмерзшего трупа, они нашли только темное пятно крови да массу волчьих следов. Эти господа не постеснялись разорвать на части галкину собственность, а какой-то запоздавший неудачник пытался, по-видимому, есть даже снег, пропитанный кровью. Только в бурной и крикливой манифестации могла галка выразить свою обиду и дать некоторое духовное удовлетворение пустому желудку.
Выбрав дерево поудобнее, галка комфортабельно уселась на тонкой ветке, согнувшейся под ее тяжестью и осыпавшей мелкий, сухой снег. Каркнув, чтобы прочистить застуженное горло, и сжавшись в комок, так, что галкин приятель, мороз, только руками развел, не видя возможности хоть где-нибудь найти незащищенное место, она сладко закрыла сперва один, а потом другой черный глаз и тотчас же заснула.
Много ли, мало ли прошло времени, галка, по отсутствию часов, установить не могла, но факт тот, что она проснулась, совсем еще не выспавшись, и потому недовольная. Разбудило ее ощущение человеческой близости. Около моста серели две закутанные фигуры. Любопытная, как все женщины, галка перелетела на ближайшее дерево и услыхала разговор.
– Ну кого в эту ночь понесет нелегкая? – сказал сквозь зубы один, тот, что повыше, выпуская тучу пара сквозь заиндевевшие усы и бороду. – Ну и морозище!
– Погодим полчасика, – ответил другой, похлопывая руками.
Сгорбившись, обе закутанные фигуры скрылись под мостом. Галке так же легко заснуть, как и проснуться. Разочарованная, она заснула, когда какой-то звук снова разбудил ее. За поворотом дороги слышался скрип полозьев по твердому снегу накатанной дороги. Показались небольшие сани. Пузатая малорослая лошаденка бойко перебирала озябшими ногами. На козлах, понурившись, сидел человек; в санях виднелось что-то темное, тоже вроде человека…
– Стой!
На дорогу быстро выскочили те две фигуры, что сидели, спрятавшись, под мостом. Заинтересованная галка, тихонько каркнув про себя от удовольствия, обратилась в слух. Лошаденка остановилась. Кучер что-то сказал человеку, сидевшему в санях, и тот привстал. Воротник шубы скрывал его лицо и голову. Один из первых знакомых галки взял лошадь под уздцы, а другой, тот, что был повыше ростом, крикнул: «Стой!» И подошел к саням. В опущенной руке он держал что-то тяжелое.
– Здоровье вашей милости! – грубо сказал он. – Нуте-ка, вылезайте из саночек – приехали!
– Душегуб, разбойник, – глухо донеслось из-за воротника шубы: – Что хочешь ты делать?
– А там увидишь.
– Слышь, милый человек, не тронь, – сказал сидевший на облучке. – Пра, не стоит.
– Молчи, пока жив! – прикрикнул высокий, сурово метнув черными глазами. – Вон из саней!
– Слышь, милый человек…
Высокий взмахнул чем-то бывшим в руке и блеснувшим при слабом мерцании звезд. Тот кубарем слетел с облучка и, видя, что поднятый топор не опускается, прошептал про себя: «Ишь, какой сердитый, тетка твоя малина!» Сидевший в санях тоже вылез и, нагнувшись, развертывал что-то стоявшее на сиденье. Взяв затем развернутый предмет в руку и держа его перед собою, он медленно направился к высокому, с нетерпением ожидавшему окончания сборов.
Никогда галке ни прежде, ни после не приходилось так удивляться! Как будто перед каким-то призраком, высокий начал отступать перед шедшим на него длинноволосым человеком. Допятился он до товарища, который, увидев то, что держал перед собою длинноволосый человек и что блестело от невидимо откуда исходившего света, отпустил лошадь и также начал отступать. Так двигались они: длинноволосый и перед ним два разбойника. Вот один из них нерешительно поднял руку, снял шапку; другой быстрым движением скинул свою. Длинноволосый остановился, остановились и они.
Сидевший раньше на облучке поднял топор и сказал:
– Говорил тебе, не тронь. Видишь, попа везу. Эх ты, ворона!
Галка оскорбленно каркнула, но ни ее, ни говорившего не слыхали те, что стояли друг перед другом.
– Ныне Христос родился, а что вы делаете, душегубы, разбойники! – произнес тихий, старческий голос.
Молчание.
– Я, недостойный служитель Бога, святые дары везу к умирающему. И вы будете умирать, к кому вы на суд пойдете?
Молчание, только хрустнула ветка под шевельнувшейся галкой.
– Любить друг друга заповедал Христос, а что вы делаете? Христианскую кровь проливаете, души свои губите. Убиенные войдут в Царствие Небесное, а вы?
Колена высокого подогнулись, и он упал ниц. Быстро последовал за ним и товарищ. Так лежали они в снегу, не чувствуя, как коченеют их пальцы, а над ними звучал тихий, старческий голос:
– Не мне поклонитесь, а Ему милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он, человеколюбец, простил душегубца и татя.
– Батя, прости, – прошептал высокий.
– Прости, батя, не будем, ей-богу, больше не будем, – присоединился второй, поднимая голову.
Священник молча повернулся и пошел к саням.
Галка не хотела признаваться самой себе, что она лично заинтересована в исходе дела. Неодобрительно каркая, она думала, что стоит лишь на страже интересов сословия. Действительно, хорошо будет житься галкам, если люди будут деликатничать друг с другом! Иронически встопорщив перья, галка сделала вид, что не смотрит на дорогу, но тотчас же обошла закон и скосила глаза на нарушителей междуживотного права.
– Говорил, милый человек, не тронь. Эх!
Скидывай-ка пояс!
Высокий послушно развязал пояс и подал работнику, который медленно и толково прикрутил ему руки к лопаткам.
– Ну-ка ты! Чего слюни-то распустил? Давай пояс, – обратился он к другому.
– Ну, ну! – слабо запротестовал тот, косясь на священника, но развязал пояс и подал.
– Отпусти их, Степан, – сказал священник.
– Как это можно, отец Иван. Меня попадья заругает.
– Отпусти. Не людям дадут ответ, а Богу.
Степан неохотно развязал высокого, дал слегка по шее его товарищу и сел на облучок.
– А с топором-то, милый человек, простись, – проговорил он, трогая лошадь.
Вскоре и сани и седоки скрылись в ночной мгле, откуда донеслось:
– Говорил, не тронь. Эх…
Изумленная до последней степени и возмущенная галка, перегнув голову набок, с любопытством смотрела на оставшихся, в неясной надежде, что дело еще может поправиться. Высокий стоял молча и потупив глаза. Товарищ тронул его руку.
– Пойдем!
Высокий молча двинулся вперед, а за ним поспешно зашагал товарищ. Вскоре и эти скрылись в темноте, и галка, столь любящая человеческое общество, осталась одна. Впрочем, на этот раз человеческое общество ей совсем не понравилось.
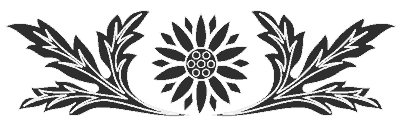
Весенние обещания
I
Кузнец Василий Васильевич Меркулов был строгий человек, и когда по праздникам он напивался пьян, то не пел песен, не смеялся и не играл на гармонии, как другие, а сидел в углу трактира и молча грозил черным обожженным пальцем. Грозил он и трактирщику за стойкой, и посетителям, и слуге, подававшему водку и жареную рыбу; приходил домой и там продолжал грозить пустой хате, так как уже давно жил один. В споры и брань с ним не вступали, так как от смешной угрозы он легко переходил к жестокой и кровавой драке; при своих пятидесяти годах был очень силен, и узловатый черный кулак его падал на головы, как молот. И с виду он был еще очень крепок – худощав, но жилист и высок ростом; и ходил гордо: грудь выпирал вперед, а ноги ставил прямо, не сгибая колен, точно вымерял улицу циркулем.
Жил он, как и все в Стрелецкой слободе, не хорошо и не плохо, и никто не думал о нем и не замечал его жизни, так как у всякого была своя трудная и часто мучительная жизнь, о которой нужно было ежеминутно думать и заботиться. Новых людей мало приходило в слободу, заброшенную на край города, и все обитатели ее привыкли друг к другу и не замечали, что время идет, и не видели, как растет молодое и старится старое. Время от времени кто-нибудь умирал; его хоронили и день-два тревожно переговаривались об его неожиданной смерти, а потом все становилось так, словно никто и не умирал, и казалось, будто покойник продолжает еще существовать среди живых, или же что здесь совсем нет живых, а только покойники. Жили на Стрелецкой впроголодь, но принимали это покорно и за существование боролись равнодушно и вяло, – как больные, у которых нет аппетита, вяло и равнодушно переругиваются из-за лишней тарелки невкусного больничного супа.
Хата и кузница Меркулова стояли на краю слободы, там, где начинался берег реки Пересыханки. Берег был изрыт ямами, в которых брали глину и песок; река была мелкая, и летом через нее ездили вброд на тряских, пахнущих дегтем, телегах мужики из соседней деревни. Кузница Меркулова помещалась в землянке, и на землянку похожа была и хата, у которой кривые окна с радужными от старости стеклами дошли до самой земли. Около землянки стояли черные, закопченные столбы для ковки лошадей; и они были старые, бессильно погнувшиеся, а их глубокие продольные трещины походили на глубокие старческие морщины, проведенные долгой и суровой жизнью. Один столб уже два года качался. Меркулов, проходя мимо него пьяный, сурово грозил ему пальцем, но больше ничего не делал, чтобы укрепить его.
Пять месяцев в году Стрелецкая слобода лежала под снегом, и вся жизнь тогда уходила в черные маленькие хаты и судорожно билась там, придушенная грязью, темнотой и бедностью. Сверху все было девственно бело, глухо и безжизненно, а под низкими потолками хат с утра плакали дети, отравленные гнилым воздухом, ругались взрослые и колотились друг о друга, бессильные выбиться из тисков жизни.
И всем было больно. Так же нехорошо и темно было в занесенной хате Меркулова, и все в ней было кривое, черное, грязное той безнадежной грязью, которая въелась в дерево и вещи и стала частью их. Один угол покосился, и окно в нем стояло как-то нелепо, боком, а потолок был черный от копоти, и вместо всяких украшений на стене были наклеены цветные этикеты от бутылок: «Наливка киевская вишневая». Работы зимой было мало, и тяжелым сном проходила одинокая жизнь Меркулова среди кривых стен под черным низким потолком. Он спал, сколько мог, а когда сна не было, лежал и с суровым недоумением и вопросом вглядывался в свою жизнь. Бледными тенями проходило прошлое, и было оно простое и странное до ужаса, и не верилось тому, что в нем заключена вся жизнь его, а другой жизни нет и никогда не будет. Была жена и умерла от холеры, и лица ее не может вспомнить Меркулов, как будто никогда не существовала она в действительности, а только приснилась. Были и дети: один сын долго хворал, измучил всех и умер, другой пошел в солдаты и пропал без вести. Осталась одна дочь, Марья; она была замужем за пьяницей, сапожником на Стрелецкой, и часто прибегала к Меркулову жаловаться, что муж бьет ее: была она некрасивая и злая; тонкие губы ее дрожали от горя и злости, а один глаз, заплывший синяком, смотрел в узенькую щель, как чужой, печальный и ехидный глаз. Она кричала на всю улицу и бранила мужа; потом начинала бранить отца и называла его пьяницей, а соседские бабы и ребята заглядывали в окна и двери и смеялись. И это была вся его жизнь, а другой нет и никогда не будет.
И он лежал под черным потолком и думал, а на дворе тихо и покорно угасал короткий зимний день. В хате становилось темно, и Меркулов выходил на улицу: безлюдная и глухая, словно вымершая, она тихо лежала под снегом и была точно отражением безжизненного тусклого неба. И между ней и этим однотонно-серым и угрюмым небом быстро нарастала осторожная молчаливая тьма. На колокольне Михаила Архангела благовестили к вечерне, и казалось, что с каждым протяжным ударом на землю спадает мрак. Когда колокол без отзвука умолкал, на всей земле уже стояла покойная немая ночь. Мимо Меркулова, по направлению к реке, проехал на розвальнях мужик. На минуту мелькнула лошаденка, потряхивавшая головой, мужик с поднятым воротом, привалившийся к передку саней, – и все расплылось в глухой тьме, и топота копыт не слышно было, и думалось, что там, куда поехал мужик, так же все скучно, голо и бедно, как и в хате Меркулова, и стоит такая же крепкая зимняя ночь. Вложив руки в карманы штанов, опершись на одну ногу и отставив другую, Меркулов с угрюмым вопросом смотрел на небо, искал на нем просвета и не находил. Был он высок и черен и в своей неподвижности напоминал один из черных столбов кузницы, до самой сердцевины изъеденных временем и жизнью.
Если случались деньги, Меркулов одевался и уходил в город, в трактир «Шелковку». Там он впивал в себя яркий свет ламп и такой же яркий и пестрый гул трактира, слушал, как играет орган, и сперва довольно улыбался, открывая пустые впадины на месте передних зубов, когда-то выбитых лошадью. Но скоро он напивался, так как был на водку слаб, начинал хмуриться и беспокойно двигать бровями и, поймав на себе чей-нибудь взгляд, многозначительно и мрачно грозил обожженным черным пальцем. Орган, торопливо захлебываясь и шипя, вызванивал трескучую польку; Меркулову казалось, что он не играет, а плюется разбитыми, скачущими звуками ненужного веселья, и от этого становилось обидно, грустно и беспокойно. Он грозил блестящим трубам и непреклонно бормотал:
– Не позволю, чтобы так играть. По какому праву? Нет у тебя права, чтобы так играть. Не позволю.
Когда в одиннадцать часов трактир запирали, Меркулов, покачиваясь и опираясь руками на заборы, долго и трудно шел домой и перед своей хатой останавливался в тяжелом недоумении и гневе.
– Моя хата, – говорил он, удивленно поднимая брови и пытаясь выше поднять отяжелевшие веки. – Не позволю, чтобы так криво стояла.
Потом, мотая головой на ослабевшей шее, блуждая взорами по окружающему, отыскивал на небе то место, куда смотрел вечером, тяжело поднимал руку и грозил согнутым пальцем, не в силах от хмеля распрямить его.
– Не позволю, чтобы так все. По какому праву? И засыпал он с угрюмо сведенными бровями и готовым для угрозы пальцем, но хмельной сон убивал волю, и начинались тяжелые мучения старого тела. Водка жгла внутренности и железными когтями рвала старое, натрудившееся сердце. Меркулов хрипел и задыхался, и в хате было темно, шуршали по стенам невидимые тараканы, и дух людей, живших здесь, страдавших и умерших, делал тьму живой и жутко беспокойной.
II
Началось это на третьей неделе Великого поста, началось неожиданно и оттого особенно радостно. Утром Стрелецкая слобода проснулась в дымчатом, пахнущем гарью тумане, мягком и теплом, а когда туман рассеялся, воздух стал ясный и светлый, и ни на чем не было теней. И словно от земли, от крыш и домов отпало что-то железное, что давило и сковывало, и все начало пахнуть: снег, навоз и дома. У бондаря Гусева пекли хлеб, и по всей улице стоял домовитый приятный запах теплого хлеба. Как полированные, блестели по дороге широкие следы деревянных полозьев с крапинками золотистого лошадиного навоза, кричали выползавшие из хат ребята, и со звонким лаем носились собаки за тяжелым вороньем, грузно приседавшим над черными пятнами старых помоев. И дышалось легко и вольно. Так в нерешимости несколько дней стояла Стрелецкая, а потом солнце взошло на чистом и глубоком небе, и снег начал плавиться с удивительной быстротой, как на огне. Во всех углублениях сбиралась пахучая снежная вода, и бабы перестали ходить на реку: в садах и огородах они выкапывали глубокие ямки, и на дне их, среди рыхлых снежных стенок, собиралась вода, прозрачная и холодная, как в ключах. Все меньше становилось снега и все больше воды; тепло и радостно светило солнце, и в лучах его блестел и сверкал тающий нежный покров. Блистала белым огнем каждая капелька воды, и если стать против солнца, то казалось, что вся земля зажглась в одном ослепительном сиянии, и больно было отвыкшим от света глазам. А в голубом небе было спокойно и торжественно ясно, и, когда Меркулов из-под руки смотрел на него, лицо его, еще пылающее жаром раскаленного горна, становилось трепетно-напряженным, и в редких усах безуспешно пряталась стыдливая улыбка. Он долго стоял на своих негнущихся ногах, смотрел и слушал и всем телом своим чувствовал то глубокое и таинственное, что происходило в природе. Не мертвый, как зимой, а живой был весенний воздух; каждая частица его была пропитана солнечным светом, каждая частица его жила и двигалась, и казалось Меркулову, что по старому, обожженному лицу его осторожно и ласково бегают крохотные детские пальчики, шевелят тонкие волоски на бороде и в резвом порыве веселья отделяют на голове прядь волос и раскачивают ее. Он приглаживал волосы шершавой рукой, а прядь опять поднималась, и в сединах ее сверкало солнце.
И все, что было вокруг: далекое спокойное небо, ослепительное дрожание водяных капель на земле, просторная сияющая даль реки и поля, живой и ласковый воздух – все было полно весенних неясных обещаний. И Меркулов верил им, как верят весне все люди, молодые и старые, счастливые и несчастные. Пятидесятую весну встречал он, а была она нова и радостна, как первая весна его жизни. Весь Великий пост Меркулов много работал, и новое чувство покорности и тихого ожидания не оставляло его. Он покорно принимал тяжелую работу, покорно принимал грязь, тесноту и мучительность своей жизни и в черную хату свою с кривыми углами входил, как в чужую, в которой недолго остается побыть ему. И как что-то новое, доселе невиданное, изучал он черные прокопченные потолки, паутину на углах, покатые полы с прогнившими половицами, изучал с серьезным и глубоким равнодушием постороннего человека. Все с тем же чувством кроткой покорности и смутного сознания, что нужно выполнить какой-то долг, Меркулов весь пост не пил водки, не бранился и питался только черным хлебом и водой. И в воскресенье не шел в трактир, как обычно, а с сосредоточенным и торжественным лицом сидел около своего дома на лавочке или журавлиным шагом прохаживался по Стрелецкой и смотрел, как играют ребята.
А детей было много на Стрелецкой, и нельзя было понять, куда прячутся они зимой, такие живые, громкие и неудержимые. Как мухи на солнце, они бегали, ползали, кружились, и каждый в своей живой подвижности походил на троих, а смех их был как неумолчное жужжание. И тут же вертелись собаки, расхаживали озабоченные куры, и на привалинке грелись белые тощие кошки, и все это жило шумной, беспокойной и веселой жизнью. На солнечной стороне под забором уже слегка зеленела трава, и по ней, без призора, катался крохотный круглый мальчишка, едва начавший ходить. Его уже испугала собака, потом воробей, он долго и громко плакал, но прилетело откуда-то белое и легонькое перышко и село поблизости, шевелясь и собираясь с силами для нового полета. И он старался накрыть его маленькой грязной рукой и задумчиво бормотал:
– Голубосек. Миленький. Подозди.
Но перышко поднялось и улетело, и он опять вспомнил страшного вертлявого воробья и заплакал. Подошла девочка немного побольше, чем он, в больших материнских башмаках, наклонилась, опершись ладонями на колени, и спросила:
– Мишка! Ты что плачешь?
– Кусается.
– Собака кусается?
– Собака кусается, и птичка кусается.
Девочка подумала и презрительно ответила:
– Дурак!
И опять Мишка остался один, ему хотелось есть, и дом был страшно далек, и не было возле близких людей, – все это было так ужасно, что он поднялся, всхлипнул и, опустившись на четвереньки, пополз куда глаза глядят. Меркулов поднял его и понес; Мишка сразу успокоился и, покачиваясь на руках, сверху вниз, серьезно и самодовольно смотрел на страшную и теперь веселую улицу и ни разу до самого дома не взглянул на незнакомого человека, спасшего его.
На Страстной неделе Меркулов говел. Во все дни недели он неукоснительно посещал каждую церковную службу простаивал ее с начала до конца, покупал тоненькие восковые свечи, гнувшиеся в его грубых руках, и чувство покорности и трепетного ожидания росло в его душе. Ранним утром, когда тени от домов лежали еще через всю улицу, он шел в церковь, хрустя тонким ночным ледком, и по мере того, как он подвигался вперед мимо сонных домов, вокруг него вырастали такие же темные фигуры людей, ежившихся от утреннего холодка. Как и Меркулов, они несли в церковь грехи и горе своей жизни, и много их было, и были они бедно и грязно одеты, с темными и грубыми лицами. Они шли быстро и молча, словно боялись пролить хоть каплю из глубокого ковша своей темной жизни, и Меркулов, оглушенный нестройным топотом их ног, охваченный лихорадкой массового неудержимого стремления, шагал все крупнее своими негнущимися журавлиными ногами. И чем ближе к церкви, тем быстрее и беспокойнее становились шаги идущего. Искоса поглядывая, не обгоняет ли кто его, Меркулов шумно входил в притвор, пугался глухого эха своих шагов по каменному звонкому полу и робко открывал тяжелую бесшумную дверь.
И за дверью встречали его холодная, торжественная тишина, подавленные вздохи и утроенное эхом гнусавое и непонятное чтение дьячка, прерываемое непонятными и долгими паузами. Смущаясь скрипом своих шагов, Меркулов становился на место, посреди церкви, крестился, когда все крестились, падал на колени, когда все падали, и в общности молитвенных движений черпал спокойную силу и уверенность.
В пятницу перед исповедью Меркулов просил прощения у дочери своей, Марьи Васильевны, и у мужа ее, пьяницы Тараски. Не говевший Тараска торопливо дошивал сапоги, сосредоточенно шипя дратвой, но к тестю отнесся внимательно и на его низкий поклон ответил поклоном и покаянными словами:
– Что ж, папаша! Все мы, конечно, свиньи. Что там…
Марья Васильевна поджала тонкие губы и со взглядом в сторону неохотно ответила кланявшемуся отцу:
– Бог простит. Простите и нас, если в чем виноваты.
Злая она была и несчастная, и не прощать ей хотелось, а проклинать. Горько и обидно было ей смотреть на отца: что он так благообразен, умыт и причесан, а ей некогда лица сполоснуть; что он полон каким-то неизвестным ей и приятным чувством и завтра его будут поздравлять; что он просит у нее прощения, а сам считает ее ниже себя и даже ниже пьяницы Тараски. И совсем сердито она крикнула на отца:
– Ну, иди, иди! Видишь, люди работают.
Ночью Меркулов не спал и несколько раз выходил на улицу. На всей Стрелецкой не было ни одного огонька, и звезд было мало на весеннем затуманенном небе; черными притаившимися тенями стояли низенькие молчаливые дома, точно раздавленные тяготой жизни. И все, на что смотрел Меркулов: темное небо с редкими немигающими звездами, притаившиеся дома с чутко спящими людьми, острый воздух весенней ночи, – все было полно весенних неясных обещаний. И он ожидал – трепетно и покорно.
III
В обыкновенные дни, в праздники и будни, двери на церковные колокольни бывают заперты, и туда никого не пускают, но на Пасху в течение всей недели двери стоят открытыми, и каждый может войти и звонить сколько хочет – от обедни до самых вечерен. На белой колокольне Михаила-архангела, к приходу которого принадлежала Стрелецкая, толкалось в эти дни много праздного разряженного народа: одни приходили посмотреть на город с высоты, стояли у шатких деревянных перил и грызли семечки из-под полы, чтоб не заругался сторож; другие для забавы звонили, но скоро уставали и передавали веревку; и только для одного Меркулова праздничный звон был не смехом, не забавой, а делом таким серьезным и важным, в которое нужно вкладывать всю душу. Как и все, он надевал праздничное и веселое платье: красную рубаху, новые блестящие сапоги, но лицо его с редкой бородкой и беззубым ртом оставалось по-великопостному строгим и замкнутым. Он не понимал, как можно на колокольне смеяться, и хмуро смотрел на скалящих зубы стрельцов, а мальчишек, которые шалили, плевали вниз, перегнувшись через перила, и, как обезьяны, лазали по лесенкам, часто гонял с колокольни и даже драл за уши.
Приходил он на колокольню самым первым, когда в церкви шла еще обедня и звонить нельзя было. Когда он еще только входил в низкую сводчатую дверь колокольни и сразу попадал во тьму и сухой холод каменных переходов, он чувствовал себя отрешенным от всего, что составляло его жизнь, и готовым к восприятию чего-то великого, радостного и таинственного, чего нельзя передать словами. На изогнутых ломаных лестницах было тихо той глубокой тишиной, которая копится сотни лет; и из темных углов, занесенных паутиной, от исщербленных кирпичей, из черных загадочных провалов глядело что-то старое, седое и важно задумчивое. Было жутко слышать скрип собственных шагов, и Меркулов переступал ногами осторожно и почтительно, а на промежуточных площадках вежливо отдыхал, хотя усталости не чувствовал. Выбравшись наверх, он степенно, как в церкви, оглядывался, вытирал лоб платком и со страхом перед ожидающим его неизмеримым блаженством застенчиво осматривал большой спокойный колокол – другие, маленькие колокола, он не уважал. И тут, на высоте, было тихо – живой тишиной нежного весеннего воздуха и плывущих в яркой синеве белых облаков. На краю площадки, за перилами, где железные листы были покрыты белым птичьим пометом, ходили и ворковали голуби, и их нежный любовный говор был громче и слышнее всех тех разрозненных, надоедливых звуков, что рождались землей и ползали по ней, бессильные подняться к небу.
Кончалась обедня. Как муравьи, поднявшиеся на задние ножки, расходились по улицам прихожане, и шумной ватагой, стуча деревянными ступеньками, как клавишами, на колокольню взбегали веселые стрельцы, прогоняли криком пугливых голубей, и кто-нибудь хватался за веревку большого спокойного колокола. В хвосте их, не торопясь и не волнуясь, как человек привычный, входил звонарь Семен; он тоже был в красной рубахе, от него слегка пахло водкой, как от других стрельцов, и красное лицо его с окладистой ярко-рыжей бородой широко и благосклонно улыбалось. Он подмигивал Меркулову и говорил:
– Что, кум, позвоним?
– Звоните вы, – угрюмо отвечал Меркулов и недовольно отходил к стороне, жуя губами: от волнения у него пересохло в горле и что-то покалывало в спине. Уже несколько стрельцов отмотали себе руки и ушли, потирая загоревшимися ладонями, и ушел Семен, когда Меркулов решительно оттолкнул стрельца и взялся за веревку. Он боялся обнаружить свое волнение, но руки дрожали и безудержно шевелились губы, а большой спокойный колокол задумчиво смотрел на него всем своим огромным жерлом и терпеливо ждал. И медленно начинал раскачиваться тяжелый железный язык. Он поддавался с важной и плавной медлительностью, подходил все ближе к блестящему краю колокола, почти касался его, и легкий гул уже пробегал по медному туловищу. А потом раздавался удар, первый, робкий, сорвавшийся удар, прозвучавший нерешительно и слабо, со странной мольбой о милости и прощении. И вслед за ним – второй, мощный и гулкий удар сотряс пространство и трепетной дрожью пронизал каменную колокольню; и еще не умер он, как плавно выбежал за ним новый. И так шли они друг за другом, широкие и свободные, как закованные в железо богатыри, которых долго держали в бездейственной засаде, а теперь они выехали на сечу и железным ураганом несутся на дрогнувшего врага. Но хмурился недовольно Меркулов; в могучих и широких звуках он слышал голос холодной и жестокой меди, и не было в них того, что так нужно было его долго ждавшему, ненасытно жаждавшему сердцу. И все крепче тянул он податливую веревку. А другие стрельцы разобрали веревки от остальных колоколов и подняли разноголосый пестрый звон, похожий на их красные, синие и желтые рубахи, и чуткий звонарь Семен издалека услышал их. Он обходил с причтом Стрелецкую, был немного пьян и очень весел и насмешливо покачивал головой, прислушиваясь к нестройному и точно пьяному звону.
– Глянь-ка, задувают-то! Чисто кота с кошкой венчают, – говорил он псаломщику, красному от быстрой ходьбы и угощений.
Меркулов не слышал и не чувствовал этой дикой неблагозвучности, на которую издалека отозвался Семен. Он весь ушел в борьбу с медным чудовищем и все яростнее колотил его по черным бокам, – и случилось так, что вопль, человеческий вопль прозвучал в голосе бездушной меди и, содрогаясь, понесся в голубую сияющую даль. Меркулов слышал этот вопль, и бурным ликованием наполнилась его душа.
– Ага! – сквозь стиснутые зубы промычал он. – Ага!
И новый вопль, безумно-печальный, полный страданием, как море водой, огненный и страшный, как правда – новый человеческий вопль. Точно в ужасе перед силой человека, заставившей говорить человеческим языком его бездушное тело, частою дрожью дрожал снизу доверху гигантский колокол, и покорно плакал о чуждой ему человеческой доле, и к небу возносил свои мощные мольбы и угрозы. И, сами не зная почему, стали серьезны веселые стрельцы, бросили веревки своих беззаботно тилилинькавших колоколов и хмуро, с неудовольствием на свою непонятную печаль, слушали дикий рев колокола и смотрели на обезумевшего кузнеца. Лицо его налилось кровью; встревоженный, весь дрожащий воздух поднимал жидкие волосы на его голове, и в крепких его руках молотобойца, как перышко, ходил тяжелый железный язык.







