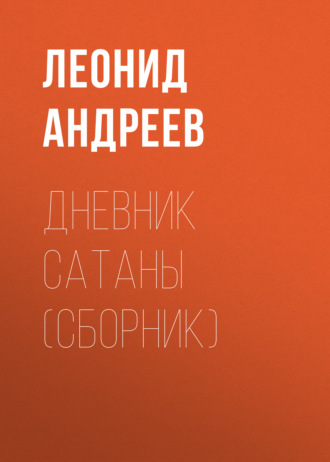
Леонид Андреев
Дневник Сатаны (сборник)
Он
Рассказ неизвестного
I
Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа – еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, – я уже имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне, как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром получать пятьдесят рублей в месяц.
– А море вы любите? – спросил меня Норден («господин» я не буду прибавлять в рассказе).
Я мог только пробормотать:
– Море? О, господи…
Он даже засмеялся:
– Ну конечно. Кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море… немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться и улыбаться. Вы будете довольны.
– Ну еще бы! – Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил:
– В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка. Елена. Пять лет тому назад.
На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка – говорит о смерти дочери, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии; в другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был выгнан из университета за невзнос платы.
Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Норден, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах.
Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Норден. Только шаг за шагом проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, – вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом.
Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приблудному студенту, гольтепе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан; было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу; и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев, – слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, – что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.
Почему не было следов на дорожках? В доме жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках.
Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся, – я не мог понять, отчего он смеется, – осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал:
– А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.
И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей, – но мне не понравилось и это.
Разве только и есть следы, что от ног? Ребенок мог забыть игрушку – дети всегда разбрасывают игрушки, рабочий мог оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забывал, никто ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувшиеся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию, – но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все было пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они – эти темные воспоминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.
И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде событий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего – в прячущегося, из преследователя – в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам, – у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность, – заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод, и когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспросветных потемок, я смеялся над вымыслами своими; но вот шли туманы с моря, низко опускалось, притушая свет, тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.
Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада, не указал мне на груду камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились, несколько нарушая правильность формы: быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания.
– Видите пирамиду? – сказал Норден. – Хоть и меньше Хеопса, но все же пирамида.
Он засмеялся – чему он постоянно смеялся? – и продолжал:
– Здесь я хотел построить церковь в норманнском стиле. Вы любите норманнский стиль? Но мне не позволили… такая узость взглядов!
Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив. Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и охотно пояснил:
– Как раз на этом месте был найден труп моей дочери, Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил.
– Как же это случилось?
– А как тонут молодые люди? – улыбнулся Норден. – Поехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку перевернуло… как это обычно случается?..
Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно поблескивала – просвечивало дно.
– Здесь очень мелко, – сказал я.
– А она уехала далеко.
– А зачем она уехала далеко?
– А зачем молодые люди уезжают далеко? – засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. – У меня есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а весною снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?
– А ту лодку тоже прибило на берег?
Норден сперва не понял:
– Какую ту лодку? Ах да, ту? Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать: прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.
После этого разговора, открывшего, как мне казалось, многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда головой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдирающий следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которой утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям?
Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море – мне показалось, что оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было…
II
Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей.
По утрам я занимался с Володей. Это был благонравный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирал ног на стол, как другие мои ученики, не ковырял в носу, не пачкал бумаги и стола и не делал мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне или только притворялся, что верит, – но было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов над столом появлялась его стриженая, светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два большие, светлые, широко расставленные глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-либо из моих учеников, настолько мало, что как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском, белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно исполняющий обязанности ребенка, – он и шалил, но только по приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости. Ибо у других двух детей – мальчика семи лет и девочки пяти – он ничему научиться не мог: они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог перекинуться даже словом.
Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гулял он отвратительно – делано, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонравного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По-видимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание, и он плакал – сидел один и плакал. Но как только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность.
– Ты ушибся, Володя?
– Да, немножко.
– Отчего же ты не плачешь?
Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:
– Я уже плакал.
Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже добавил: «Благодарю вас!» – так был вежлив этот странный и жалкий человечек.
Весь день я был свободен: гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей комнате: все свои книги, а их было множество, Норден любезно предоставил в мое распоряжение, и это вначале было одной из величайших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Иногда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позволил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие диваны, большие столы, заваленные журналами, множество книг в дорогих переплетах, тишина, как в Публичной библиотеке, – комната находилась во втором этаже, и никакой шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам Норден, заставляя собак лаять, детей танцевать и петь и всех, у которых был рот, – хохотать.
Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Гостей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появлялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал его Норден; кажется, это был управляющий его имением, не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись – трудно сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало, – тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно расспрашивал:
– Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным? Но ведь это же очень остроумно.
И объяснял, почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал волноваться, настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла; и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни прохохотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать, как все, – помню до сих пор тот конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело.
В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но однажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия, – я всегда путаю эти приличия, – спросил:
– Кто это играет?
Норден весело ответил:
– Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите, если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.
Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспокоиться.
– Удивительно играет, – повторил он, отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побежал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы, весело кричал:
– Дети! Мисс Молль! Приготовьтесь, мама хочет, чтобы вы веселились.
Наверху действительно заиграли что-то веселое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорожно-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил:
– Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаровательный танец, его сейчас танцует вся Европа.
И весело закричал:
– Танцирен, мейне киндер, танцирен. Мисс Молль!..
И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренно весела и смеялась, от всей своей маленькой души. Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня:
– А что же вы, что же вы?
Потом остановился и начал упрашивать:
– Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите всем нам огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас очень быстро научит.
Но танцевать я отказался наотрез. Когда раскрасневшихся детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь, сказал:
– Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?
С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху, иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него там были какие-то большие дела, но ненадолго – на день, на два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое делается с женою Нордена, – теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей, но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несомненно, лжив.
– Ну что, как мама сегодня? – спросил я его. – Вы были у нее сегодня.
– Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познакомиться.
– Она очень больна?
– Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант.
– А часто она плачет? – резко спросил я.
– Мама? – удивился Володя. – Нет, она никогда не плачет.
– Смеется? – сердито усмехнулся я.
– А разве смеяться нехорошо? – виновато спросил почтительнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции, засмеяться или загрустить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили.
Как-то ночью, вернее, на рассвете – те трое уже скребли железом, сдирая следы, – в доме случился переполох, связанный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши. Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или боли, в доме забегали огни, и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил:
– Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло.
Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам дома, а иногда, как певец на эстраде, останавливался на газоне и обвивал себя свистом и дикой песнью – но ставни все были целы, – я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые увидел и его жену: я поднял глаза к ее окнам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом, в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью, – я теперь иногда становился дерзким с Норденом, – я спросил, сколько лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.
III
Мой дневник, который я вел у Нордена, кем-то украден: по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. Кто бы ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, отпечатленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.
Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта, – и серой, бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так мало подвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень, и это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, не ощущаемых вблизи, но всю даль крывших безразличной мглою и полдень превращавших в серые сумерки; и вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материки песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях, и, когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю.
Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее – грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности песка я начертил чистое имя Елена, и маленькие буквы имели вид гигантских гиероглифов, взывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида – по случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.
– Зачем вы здесь поселились? – в тот же вечер дерзко я спросил Нордена. – Здесь ужасно скучное море!
Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна.
– Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас.
Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование тоски и страха, опасный и смертельный яд, от которого надо бежать… но разве поймет это Норден, – он уже рассказывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим глаз на глаз и смеемся – боже мой, как это было глупо и унизительно!
Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал в тоскливом без сновидений сне, а пятого декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в строгой последовательности их можно если не объяснить, то понять чувство нестерпимого, под конец болезненного страха, постепенно овладевавшее мной.
Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило в себя все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Нордена и меня, дотоле постороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот.
Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и когда после занятий с Володей я вышел наружу – было тихо, мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие следы, я поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная, исковерканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегодня все было ровно, не было никаких границ, малейших задержек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок, а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, которая является у людей перед всякой ровной нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу:
Елена.
Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами… Нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педелю. А сам Норден представился просто чудаком, правда, неприятным, почему-то несчастным, но безобидным и, во всяком случае, чужим: заработаю деньжат, а там уеду, пусть живут как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют.
«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» – весело думал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепанный. И это было так приятно: оставлять след и помнить завтра, что сегодня я здесь шагал; и еще, быть может, много дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыденен: в холодной ласке спокойного снега исчезли отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие деревянные футляры, которыми Норден одел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерванное воскресение мертвых», – подумал я, с недоброжелательством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практической и веселой выдумкой.
Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних комнатах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но читать не хотелось, – было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная г-жа Норден. Двери были открыты; торопливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею вниз – про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но она не поддавалась, – так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право!
Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась все глубже, проникала все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького, защищенного крытого уголка.
Вечером, по обыкновению, я занимался в своей комнате, писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за окном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно белела ночь, – по-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.
Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две стены здания, и окна были довольно низко над землею: ничего не стоило, поднявшись на носки или просто будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом», – подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску… Да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу – та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.







