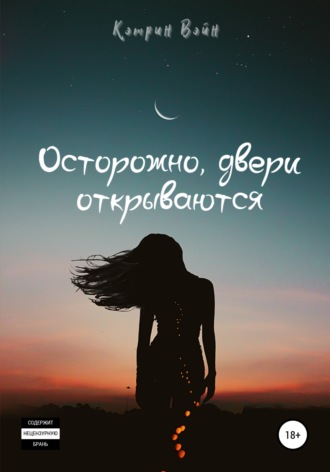
Кэтрин Вэйн
Осторожно, двери открываются
– Ты там про платок что-то орал. Покажи.
Быстро художник нырнул рукой в карман рюкзака и вынул ткань, свёрнутую в десять раз: старые, затёртые узоры, застиранный орнамент, края заштопаны не в первый раз. И в глазах танцовщицы появляется трогательная детская нежность. Щёлк. И ей уже не за что злиться.
В руках парень держал дорогую вещь из её детства.
– Спасибо, – она робко выдохнула, спрятав платок между сжатых пальцев. Прижала к себе и от обиды крепко закрыла глаза. Чуть-чуть не потеряла связь с самым лучшим воспоминанием из своей жизни – мамин платок, которым она всегда утирала Танечке носик. С рождения и до семи лет. Один и тот же старенький платок.
Взгляд её строго устремился на парня и его зелёные глаза в ответ проявили испуг.
– Пошёл я на хер, да?
– Нет. Ты там про балет что-то спрашивал или мне показалось?
Они пошли неведомо куда. Юра учился понимать две вещи в этой прогулке: безопасность и балет. Он подбегал к Тане поближе, когда она норовила по скользким дорожкам съехать к дороге, и с ученическим любопытством выслушивал курс лекции – «что такое либретто». Таня училась вспоминать балет, как будто он был вчера. И завтра тоже будет: просыпаться в шесть утра, бежать самой первой в балетный класс, на уроках в обычной школе и дома, ночью, думать только о новых разученых элементах. Она любила примерять новые пуанты, пачки и знала, что боль бывает приятной, когда танец получается. Тогда её колени разбиты не зря, плечи ноют не напрасно и считать не надо, нет, сколько слёз она выплакала, оттачивая один и тот же поворот на месте. Она рассказывала и вспоминала как увидела своего Лёшу на сцене и влюбилась, – он исполнял партию принца на конкурсе в Польше, а Таня была Золушкой. Его лёгкость, парящие прыжки, целеустремлённый взгляд… Ей было суждено его полюбить и запомнить навсегда именно таким.
– А каким бы я мог стать персонажем балета? – почесав затылок вопрошал Юра, пряча глаза от слепящего солнца.
– Меркуцио из «Ромео и Джульетта»: безрассудный и дурной, – отвечала Татьяна, напевая себе под нос мелодию из балета.
– Подожди, подожди, это меня в конце убьют? Ну, спасибо. Заслужил, да.
– В любой трагической истории мало, кто выживает. А если и выживает, то только физически, а душой…
Парень махнул рукой, отгоняя выводы прочь от себя.
– Начинается. Так, чтобы меня повысили, нам надо срочно найти кафе, – он забылся, взялся за ручки инвалидного кресла, но, усмирённый взглядом воинствующей Джульетты, быстро их отпустил. Этот парень, что он такое, если сохранил то, что дорого ей? Мог не увидеть обычный платок, оставить его, выбросить. Но он помнил и, кажется, все попытки увидеть Таню так и носил его в своём рюкзаке. Юра мог отвалиться как банный лист, но не отлипал, взахлёб закидывая одним за другим вопросами. Он заказывал два глинтвейна в сквере и Таня не могла ему возразить. В болтовне о балете она забывала, что надо быть с художником резкой.
Два часа скитаний незнакомцев закончились на Театральной площади. Финиш спонтанной прогулки. Юра поглядывал на часы и мельком изучал стройный ряд гневных сообщений на экране телефона от начальства, где среди прочего светилось одно привычное – «Стрельников, соскучилась. Очень. Позвони вечером». Ему останутся на остаток дня рюкзак, невыполненная за сегодня работа, а теперь и чей-то милый голос в трубке перед сном. Всё это было там, за пределом, забором, стеной, а здесь, в круговом периметре светлого неба и безлюдной площади, оставалась девушка.
– Мы встретимся завтра? – скромно произнёс парень, держа руки в карманах куртки. Изредка он сжимал пальцы в кулаки, когда ждал ответа от балерины.
– Встретимся? Зачем? – Таня спокойно пожала плечами и опять ткнулась в телефон. Встретимся, отличный план, чтобы говорить ни о чём, вести лекции на тему искусства и спросить интересное только под конец встречи. Знакомая история. Очень редко заканчивается удачей.
– Да просто так. Ещё один день неплохо провести. В компании друг друга. Ты же… Всегда здесь сидишь одна, верно?
Таня усмехнулась. Какая обидная наблюдательность. Она отвела глаза, чтобы спрятать неприязнь в рекламных щитах. Удивится её сегодняшний экскурсовод, но раньше, до него, ей не доводилось волноваться о том, что здесь, в своём мирке, она сидит всегда одна. Теперь волнение.
Горе художник поёжился от того, как же быстро опять стало прохладно. Между ними.
– Вообще люблю общение и знакомства. Я… Парень общительный, так, на будущее. И в этом плане для меня ты – необычный человек. В том смысле что… Никогда не был знаком с балериной. Да, вот так всё просто и примитивно.
Необычный. Человек. Таня знала, что скрыто за этой фразой. Необычно, правда, встретить на улице молодую девушку в инвалидном кресле, которая в недавнем прошлом танцевала.
Танцевала. А как ты это делала?
Обмануться бывает чаще приятно. Почему бы да. Таня смотрела на то, как между пальцев тлеет сигарета, а на неё направлен заинтересованный взгляд. Ты танцевала, да расскажи об этом.
Обман иллюзией прекрасен. И, вытянув руку на прощание, танцовщица гордо ответила:
– Хорошо. Я согласна встретиться опять. На Тверском бульваре.
Они синхронно улыбнулись, случайно, конечно, и совершенно специально в руках курьера оказался клочок бумаги из блокнота. Быстрым почерком он набросал одиннадцать своих цифр.
– Напиши мне, если вдруг, передумаешь.
Таня скомкала клочок бумаги в карман куртки и, глядя стёртым взглядом, сказала обычное «счастливо».
Обещать было нечего.
И в этот раз Стрельникову удалось заметить, как медленно она удаляется: неподвижные ровные плечи, гордая осанка Одиллии, неспешное движение порядком потёртых колёс и заметно, очень чётко видно – Таня едет вперёд, не опуская головы. Совсем. Она порывается обернуться назад, махнуть рукой на прощание, но из воспитанности не делает этого. Юра улыбнулся. Она строгая, очень даже, но когда ей надоедает быть такой, не собой, превращается в ту самую смешную девочку из балетной школы. Которую ему захотелось узнать.
На стоянке уже ждал Алексей. Он сжимал крепко руль и наблюдал усталым взглядом, как Таня лавирует между оставшимися машинами и людьми. Он гордо дождётся её, усадит небрежно на переднее сиденье и не позволит себя поцеловать. Не злой, не уставший, а просто тяжёлое и привычное уже «не надо» прозвучит в душном воздухе.
Пристегнувшись, Таня коснулась щеки своего танцора.
– Я соскучилась.
В ответ он усмехнулся, круто сворачивая на дорогу.
– Пару часов прошло.
– Мне и минуты без тебя очень много. Как ты?
– Хорошо.
– На этот раз балетмейстер заметил твои старания?
– Да.
– Что говорит?
Включив третью скорость, Алексей в такт попсовой песенке весело отбивает бит пальцами по обивке. Наклонив голову на бок дышит так, что этого не видно, не слышно.
– Давай потом поговорим. Ах да, пока не забыл, сегодня дома не ночую, не жди.
Таня посмотрела в окно. Высокая скорость и всё, что пролетает мимо прямо сейчас, начинает сваливаться в тёмную дыру, а слова, те самые слова, звучат как удар мяча о бетонную стену. Потупив взгляд она прикусит сильно нижнюю губу. Хотела спросить простое «почему?», но этот момент всегда опускала потому как знала – Лёша ничего не скажет. Покрепче зажмёт руль, вдавив ногу в «газ» сделает радио погромче и всё. Теперь ему и, правда, хорошо. Сейчас хорошо, когда опять можно помолчать.
Простая фраза «ночевать не буду» дёргала Таню за брови, губы, скулы и физически меняла настрой. Руки искали тепла или тихого места. Если бы только она тоже могла работать, Лёша был бы ночами рядом, в постели. Как и должно это быть.
Авто уже почти свернуло в район, где жила пара, как в кармане под пальцами зашуршал лист. Неровно вырванный клочок. Синие чернила. Номер. Аккуратно сложен в шесть частей. Лежит точно там же, где и маленький платочек из детства. Открывая изгиб за изгибом стоит подумать – «написать, не написать?». Гадать известной дорожкой. Машина сбавляла скорость. Перед карими пустыми глазами за стеклом убегает Проспект Мира, белоснежный забор нелюбимой больницы и очень близко окна карикатурной квартиры. Написать? Не написать?
– Завтра не знаю, утром вернусь ли или поеду сразу в театр. Может поеду к родителям. Может и вернусь. Не знаю, – мимолётно танцор посмотрел как раскрывается клочок бумаги в руках любимой.
И так она украдкой, будто списывая контрольную по физике, наспех забивая телефон в мессенджер, пишет обычное, простое, механическое. Озлобленное:
«Я не передумала. Завтра встретимся на Тверской».
Приятное.
Для Юры.
Авто свернуло во двор, а чья-то входная дверь с тяжестью открылась. На пол в прихожей небрежно был скинут рюкзак. Юра вздохнул и, не включая свет, прошёл по мрачному коридору вглубь квартиры – путь в один маленький шаг. Можно теперь отдохнуть. Осталось из головы убрать сообщение директора:
«Стрельников, ты получаешь ещё один штраф и последнее предупреждение. Следующий отгул и увольняю».
На кухне загорелся свет, спускаясь на пол из-под абажура старой советской люстры. Через два оборота вокруг оси, в вечернем мраке, располагалась единственная маленькая комната. Уютный жилой угол: у окна стол заброшен бумагами, карандашами, линейками и красками. Бесконечная инсталляция «Хлам», где в её недрах запрятаны чертежи и портреты.
Скрипнуло окно и курьер опустился на стул, закрыв усталые глаза. Наверное ему, как образцовому художнику, немного архитектору ночами стоило под уличный шум создавать шедевры или около того, но парень не брался всерьёз за эту историю вот уже три года. С тех пор, как закончил университет. Многочисленные картины и макеты никому не смогут принести пользы. Это будут убитые в пустую минуты. Иногда даже дни. И садился теперь Юра только лишь затем за свой стол, чтобы говорить по телефону и крутить между пальцев карандаш. На каждом повороте он улыбался и проводил ладонью по хаотичным бумагам как по чьей-то голой спине. Это она перед его глазами, та с которой он говорил вечерами. Любимый и иногда нежный голос. Чаще уставший и обиженный. Но ведь любимый.
– Ты обещал приехать на восьмое марта, почему теперь нет? – любимая душа художника Майя сидела в позе лотоса на кровати, неловко держа плечом трубку телефона. Перед ней валялся смятый выпуск екатеринбургской газеты, на которой сушились покрашенные баллончиком кроссовки.
– Я проштрафился. И теперь на меня повесили кучу работы. Сейчас без выходных, – грузно вздыхал парень, запуская пальцы в волосы. А в трубке звучало обидчивое мычание.
– Как проштрафился? Почему? Зачем ты это сделал? Ты не скучаешь по мне, раз позволяешь косячить и не приезжать на праздники?
Горькая улыбка в ответ. Любить на расстоянии было странно, но не тяжело. Екатеринбург – Москва. Они быстро научились так жить: говорить нечасто, встречаться по праздникам, обмениваться подарками через «Почту России». И иногда Юра представлял, что его девушка в долгой-долгой командировке. Особых жизненных талантов у Майи не было по московским меркам – работала продавщицей нижнего белья в Еквтеринбурге. И это отлично понимал Юра. Зато у неё было страстное рвение к красивой жизни. Но таланта обеспечить эту жизнь не было у Юры.
– Дадут выходной, ты приедешь ко мне сама, – не задумываясь, Юрий сделал два взмаха карандашом по бумаге и линии напомнили ему разрез карих глаз.
– Сама я могу и без тебя отдохнуть, – Майя обижено делала долгие паузы и после них всегда хотела одного – поскорее завершить вызов. – Ладно, я спать, мне бутик открывать в ыосемь утра.
Юра глянул на время. Десять. Всего лишь десять вечера. А рядом, на циферблате, зарубка маркером – «+2 часа».
– Постоянно забываю, что у вас уже ночь, – он задумчиво рисовал на бумаге тени век, маленькие чёрточки ресниц и быстро перешёл к начертанию строгих скул, которые от шарфика ему казались мягкими.
– Звонил бы почаще, помнил бы всегда. День и ночь, – гнусавый голос возвращал его к разговору, но он уже сжимал карандаш уаеренней и переходил на линии волос. Стоит сделать изгиб шеи и она будет узнаваема.
– У тебя ещё что-то? – сонный голос в трубке внушал обойтись без лишней болтовни напоследок.
Но так нельзя. Не по правилам. Сейчас Юра не скажет, а завтра Майя обидится, послезавтра трубку не возьмёт и затем перестанет читать его СМС.
Он сделал линию ещё, сдувая пыль с бумаги. Улыбается невольно и ведёт линию другим пальцем.
– Я люблю тебя. Вот и всё, – ласкающим голосом, похожим на шёпот, ответил он.
– Так просто?
– Да, незатейливо и так просто.
В конце концов Мая всегда проигрывала и сменяла тон нытика на влюблённую девочку, прижав телефон к себе поближе.
– Люблю. Крепких снов. И всё-таки ты… Приедешь ко мне?
– Да, сегодня же. Приснюсь.
Нарисую шею, ключицы. Карандашом, которым не пользовался два года. Растушую тени подушечками пальцев, чтобы они создавали продолжение тела. Наклоню лампу поближе к бумаге, полусонный добавлю к мыслям Тверской бульвар, чистые облака, поменяю серые цвета на яркие. Зафиксирую карандашом улыбку в три часа ночи и потом приснюсь. Обязательно.
Потом проснётся она. Откроет свои карие глаза. Привычно утром от неудобного положения тела болят мышцы. Руки, спина, шея. Всё, кроме ног. Непривычно другое. За дверью по коридору через твёрдые стены сочатся запахи кофе, слегка подгоревшего хлеба и яиц. Таня поднесла к лицу будильник. Семь тридцать утра. Плотно к кровати приставлено инвалидное кресло, окно приоткрыто и холодный воздух вместе с солнечными лучами в комнату забегает на секунду, растворяясь в тепле батарей.
Она сонно приподнялась, ощущая невозможную слабость в теле. Ещё не до конца проснулась.
– Лёш, ты дома?
С громким стуком что-то грохнуло на кухне. Во сколько он пришёл? Не знала, но могла наверняка угадать, что пару часов назад. В районе четырёх утра. Рядом постель была не смята. Значит, Лёша на диване спал. Нормальная реальность. Совсем такая же, как мешком завалиться в кресло. Десять минут Таня каждый день тратит на то, чтобы пристроить себя – собрать по частям на тесном сиденье. Поставить ноги на хлипкую подставку и, выруливая между окном и кроватью, отправиться умываться.
Из гостиной тихо звучала музыка. Попса, какую Лёша непрерывно слушает в машине. Между комнатами запах еды меняется на острый одеколон и яркий букет геля для душа.
– Доброе утро. Давно встал? – явившись на кухню, Таня проехала прямиком к холодильнику. Лёша был сильно занят. Кажется нарезанием овощей в контейнер для перекуса. Лучше не отвлекать.
– Не ложился. Привет.
Буркнет, бросит нож в мойку и быстро шагнёт обратно к столу. Обкусать сэндвич, черпнуть яичницу и глотнуть кофе. Быстрее испариться, пока не стало тесно. А ей бы всё одно по одному каждое утро – щёки его целовать, обнимать руки и с ложечки кормить, как маленького, сидя на его же коленях. Когда-то это нравилось Алексею, но теперь он вихрем проносился перед глазами, не позволяя и за руку себя взять. И всё-таки Таня смотрела ему в спину мечтательно, влюблённо и не просила большего.
Она, приняв полгода назад его упрёки о безработности, взялась за своё маленькое увлеченьице – кексы. Стряпать на заказ, продавать коробками. По старому бабушкиному рецепту. Кексы быстро превратились в торты, эклеры и весь ассортимент кулинарии, который девочкой Таня научилась стряпать. Делать что-нибудь. Умело. Просто. Ей нравилось суетится среди многочисленных приборов, греметь посудой. Делать, чтобы для самой себя казаться хотя бы на грамм живой. Занятой чем-то важным.
В маленькой кастрюле заходилась плитка шоколада. Закипала, выпаривая сладкий запах. Руки танцовщицы быстро, профессионально делали всё, чему она училась интуитивно. Словно балет творила из сладких десертов. Это оказалось несложно – спокойно соблюдая рецептуру превращать простые вещи в нечто вкусное, что немногие клиенты танцовщицы называют – «неповторимые шедевры».
Танцор навис над столом, разглядывая сахарные лепестки цветов на шоколадном бисквите.
– И что, во сколько кулинария откроется? – он язвительно и небрежно покрутил одну из роз в руках. Несерьёзная вещица, в особенности когда по указанию балетмейстера её нельзя.
Таня посмотрела вглубь голубых глаз и резво чмокнула парня. Наконец. Смогла дотянуться.
– Покупатель должен приехать через час, мне нужно вафли использовать и дольки…
Лёша уже и не слушал. Зевая он уходил в сторону. Пил кофе и молчал, гоняя свои мысли из угла в угол, как в пустом вагоне товарного поезда. Извивался в модельных позах, смотря из кухни в гостиную.
Услышав тишину, танцор зевнул, вставив обязательные слова:
– Тебя отвезти куда-нибудь?
Таня помешивала быстро в миске безе, думая над вопросом. Куда-то на Тверскую. «Встретимся в пять вечера» – висело в её телефоне СМС. Таня остановила вращение ложки в миске. Когда это успело случиться с ней? Кто-то ждёт.
– Ты разве не в театре сегодня? Мне в пять вечера нужно на Пушкинскую.
Парень пожал плечами.
– Там… – куда-то в даль растерянно он махнул, —… сдвинули репетицию. Перенесли на вечер. Съёмки у меня после обеда. Кстати, вернусь поздно.
– В восемь утра? – с долей отчаяния в голосе воскликнула Таня.
– Что? – он не услышал в ответ того, что она имела в виду.
Таня ответила тише. Уже то, что он точно услышал:
– Нет, ничего.
Она грубо втоптала крем ложкой в бисквит. Враньё. К этому легко привыкнуть, когда происходит регулярно. Обман на пустом месте без особых причин.
– А чем до вечера займёшься? Может вместе куда-нибудь сходим? – торт в руках бывшей балерины начинал постепенно принимать волшебные формы. Плавающие движения ножиком, лопаткой и вот – это уже готовый пейзаж с картин Айвазовского.
– Нет, сегодня не сходим. У меня сейчас тренировка, потом в училище мастер-класс, затем встреча с фотографом – это до шести, поужинаю в ресторане и репетировать, – Алексей нервно переодевался, переворошив весь шкаф. Иногда его звали на съёмки для рекламы и изредка на фотосессии. Ведь с такой фигурой грех не снять. Но глаза голубые врали. Неприкрыто и легко. – Какие планы у тебя? Что интересного на Пушкинской?
– Иду гулять.
Танцор исказился в театральном изумлении.
– М-м-м правда? С кем?
Он отлично знал, что чаще Таня проводит время в одиночестве. Точнее сказать – она всегда одна. И вопросы о её «прогулках» всегда задавались ради приличия.
– Встречаюсь с одним интересным парнем. Он художник. Будем гулять и пить кофе, – игривый взгляд Татьяны Лёша не оценил и нахмурил лоб.
– Я его знаю?
– М-м-м вряд ли. Нет, точно не знаешь, – она язвительно улыбнулась.
– Познакомить не хочешь?
– Зачем?
– Ну, ты моя девушка, могу я знать с какими ты парнями дружишь?
– Нет. Это не обязательно. Я же не знаю с какими примами дружишь ты.
Лёша фыркнул, двинувшись обратно в комнату.
– Малышка, всех балерин из театра ты прекрасно знаешь.
Таня пожала плечами. Действительно знает. Но это были не они, с кем свободные минуты проводит её парень. К слову, он до сих пор не всех своих коллег знал по именам. И не всем говорил «привет», приходя на репетиции. Он был ровно так же холоден в театре, как и в ревности. Безразличен. Пуст и закрыт. И ни единого больше слова не скажет о том, где и действительно с кем крутит знакомства Таня. Это не его дело.
Его дело одеться максимально привлекательно. Из сотни белых, чёрных и синих рубашек надеть ту, которая лучше обтянет его плечи и прочертит линию талии. Сделать лучший выбор в запонках, брюках и туфлях.
Там художник, понимаешь? Какой-то художник гуляет со мной.
Лёша выйдет стремительно из комнаты. Поправит у зеркала пряжку на ремне, сделает пару глубоких вдохов.
– Боже, парень, ты просто секс. И как же мне с тобой повезло. Раздевайся, останемся дома, расстелем плед на полу… – он почти целовал отражение своё, понижал голос и по ровной линеечке поправлял воротник. – Ты прекрасен как вся московская архитектура. Милый, это преступление быть таким лучшим, – Алексей никак не мог уняться. Всё это должна говорить Таня при каждом взгляде на своего Короля лебединых сердец, но речь и в его собственном исполнении была что водка с ликёром: сначала холодно и сексуально, а потом горячо и мягко.
Таня говорила, только вот Лёша предпочитал её не слышать.
В дверь позвонили и девушка с счастьем на лице стала упаковывать своё творение в коробку.
– Борисов-Нарциссов, открой дверь. Это ко мне.
Он хлопнул ладонью по двери и грубо пробурчал:
– Я живу в ссаной коммуналке! Проходной двор!
Всегда, открывая двери, Лёша устраивает бедным покупателям мини-спектакль: злобно вздыхает, презренно окидывает солидного мужчину с ног до головы и по-старчески воскликнув «о господи» уходит. Смешно, но осадок оставляет. Как и хотел.
А она остаётся, отыскивать на лице покупателей следы благодарностей. Тане редко приходило на ум пересчитать деньги, которые дают. Это было напрасно. Её мерилом была радость на лицах людей и робкое «спасибо». Девочкой её учили радовать людей за даром. Ведь это люди, а ты танцуешь для их счастья. Установки детства она пронесла и в новую, непростую жизнь.
Когда осталась одна, Таня быстро подъехала к окну, чтоб увидеть как с автостоянки выруливает Лёша. Она вздохнула, прижала свои руки к груди крепко-крепко и, сомкнув веки. Пускай он не лихачит на дороге, молю.
***
В четыре часа по полудню Пушкинская площадь была почти нелюдима. Пустой сквер, сомневающееся солнце спрятанно под серым небом и два пассажира, вышедшие с разных сторон: блестящего на солнце BMW и станции метро. Две точки из школьной программы, А и Б, движение коих происходило с одинаковой скоростью.
Юра с улыбкой поздоровался с Таней и заметил, что она, как и в первую встречу, оказалась слишком строга. Смотрела по сторонам. В желании найти предлог уйти. Передумала. Точно. Перепутала «не встретимся» с «да, почему бы и нет».
– Знаешь, а мне больше нравится, когда ты улыбаешься, – парень подмигнул, стараясь быть похожим на тех, кто безоговорочно вызывает впечатление невинных мальчиков с чистыми помыслами.
– Да неужели? Уже условия диктуешь. Это интересно. Что дальше: будешь мне рассказывать как одеваться? Что пить и во сколько на улицу выходить? – Таня не заметила собственную грубость, не выезжая из утреннего состояния. А Лёша ведь даже напоследок ничего не сказал, не поцеловал. Она так хотела его снова приобнять, подарить себя на пару минут. Куда он испраряется, когда они оказываются наедине? Почему это какой-то пацан в клетчатой рубашке уводит правила жизни Алексея: гуляет, заботится, шутит. Почему он, чёрт возьми?
– Если ты передумала видеться, то могла бы просто написать. Я понятливый, – курьер понурил голову и зашуршал льдинкам лужи, перед тем как уйти. Сегодня он предусмотрел свой внешний вид (оставил рабочую толстовку и бейсболку в офисе), заменил зимнюю куртку на осеннюю (так лучше: видно стройность его фигуры) и почти зашёл в парикмахерскую, но время неумолимо поджимало. А она сидела напротив, отвернув от него голову и ничего не говорила. Да, надо было рассудить верно, что у неё парень, строгое балетное воспитание и даже дурака ради она не будет слоняться в компании парня, которого так до сих пор по имени ни разу не назвала. Стойко Юра принял эти правила чужой жизни и развернулся уйти. И лишнего лучше не говорить.
А что останется ей, если он сейчас уйдёт? Пустые опасные улицы, одинокие квартирные стены и безрезультатные попытки продать хоть один несчастный торт. Завтра всё заново. По накатанной схеме и так дойдёт до старости, если Таня не сойдёт с ума. Она смотрела в спину художника. Уходит, как он красиво уходит. По-настоящему мужской широкий шаг, но с малой долей вальяжности. Пластично его плечи пляшут и на всю Пушкинскую площадь слышен несёлый свист.
– Юра, подожди, – наконец Таня нагнала его и схватила за руку, слегка улыбнулась. – Не передумала, давай гулять.
Мокрый, порой скользкий март правил на улицах столицы. Давай гулять, знакомиться и говорить друг с другом, будто бы знакомы несколько десятков лет, но просто позабыли об этом. Давай опять упрекать в чём-то друг друга, ведь это нравится. Юра шёл спиной к Тане и собирал по бульвару все лужи, вслух отчитывая каждое современное здание.
– Нет, подумай: здесь, в центре города, скрыто столько творческого порыва, красоты и качества, а потом ты выходишь к зданию ТАСС и там это чудовище с аквариумом вместо окон.
Она только кивала и поддакивала в ответ, не мысля совершенно ничего в архитектуре. Таня выдыхала табачный дым и, глядя на спутника, мысленно из своего словарного запаса подбирала ему прилагательные. Легкомысленный. Несерьёзный. Наивный. Простодушный. Болтливый. Другой.
Он был для неё тем типом мужчин, которых видишь, засматриваешься на них, но знаешь, что вы две разные вселенные – ты тихая, а он дурной. В детстве Таня выбегала на балкон посмотреть на таких мальчишек. Они всегда были где-то далеко от неё. Окружали Танечку всегда мальчики изящных манер, коровьих выражений в глазах и изящных походок. Да, они мальчики, но вряд ли в балетной школе их можно было увидеть с фингалами, с разбитыми коленками и орущими матом на всю округу. О них нельзя было сказать – «мыслями он ещё ветреный ребёнок и повзрослеет только к сорока». Все танцоры взрослели рано. Некогда быть ребёнком, нужно ловить славу за хвост. За место в первой линии только книги, музыка, танцы. Никто за руку в эту линию не приведёт. Мальчик сам. Девочка сама. Не тратить время на игрушки. Пренебрегать драками. Всё сам. С утра до вечера выворачивать колени. Растягивать ступни. Выгибать спину.
Теперь он. Стоял напротив Тани и, выгибая брови дугой, сжимал губы так, что их уже совсем не было на его лице. Совсем как у Тани в постоянные моменты её надменности.
Она это понимала, поэтому всё больше хмурила брови.
– Ты что делаешь?
Юра расслабил мышцы лица, снова обратившись в сплошную психопатию.
– Я хочу, чтоб ты улыбалась мне.
Таня поморщилась.
– Ха! Мне… Зачем тебе моя улыбка?
Юра сделал руки уголком, заключив в кадр прекрасное лицо незнакомки.
– А может хочу её изобразить на бумаге.
Таня объехала парня кругом. Забавно, что в современном мире ещё находятся те, кто привлекает вниманиее кисточкой и краской. Всё это что-то из позапрошлого века.
– Я думала художникам на это должно фантазии хватать.
– Всё верно. Но я предпочитаю смотреть на людей. Это куда интересней, – Юра приблизил свои руки к личику балерины, прищурил один глаз, рисуя фантазией её другой, настоящий образ. Но вот в нём как будто её особенности лица отсутствовали. – Мне нужна лишь одна улыбка, всего одна.
И Таня больше не улыбалсь совсем.
Всё же Юра искал её. По брусчатке на Большой Никитской он следил, чтобы колёса кресла стучали равномерно и легонько брался за ручки кресла на всяких светофорах. Только бы Таня не заметила. А ближе к закату они оказались у театра на Бронной, куда зрители после трудовых будней спешили на спектакль с букетами цветов. Таня, внезапно остановившись, через дорогу наблюдала за цветочным потоком. Разглядел. Только теперь в сумрачном темноватом свете Юра видел её еле заметную улыбку. И восторг. Одними лишь глазами она говорила всё, о чём мыслила – «я мечтала, что буду возвращаться домой с такими же охапками цветов. Выбегать из театра и ловить восторги людей. Буду видеть их лица на своих танцах, слёзы на моих пережеванческих партиях. Я верила, что так оно и будет». Но её счастье исчезало, как только зрители заходили в театр, а в телефоне её мелькало пустое, безликое сообщение: «освободился. У меня есть два часа, чтобы отвезти тебя домой».
Но её улыбка – от жизни, от мечты, от первого тёплого воздуха – она запомнилась курьеру. Вечером, по привычке открыв окно, парень сел за стол. В зрачках его мелькнуло лёгкое безумие. Она на прощание не сказала «счастливо», вместо неё это сделал он. Юра постучал грифелем по бумаге и, закусив губами письменную принадлежность, вытянул руку перед собой. Было необычно для него самого, но разум помнил сколько точно раз Таня улыбнулась за всё это время. Раз, два… Он перевёл взгляд на подоконник, воображая, что тенью от фонаря она сидит там и точно так же, вытянув руку вперёд, считает вместе с ним.
– Ладно, ты прав. Это было семь раз.
Грифель карандаша чиркает как спичка по бумаге. Нижняя линия. Плавная. Фантазия, говорите? Юра низко наклонился к бумаге, оставляя на прорисованном контуре своё дыхание. Бережное скольжение тенями внутри и вот они уже в миллиметре от него оживают. Чьи-то губы. А дальше новые линии. Щёки, скулы, нос. Его начинала страшно затягивать её колючесть. Две дуги снова сходятся в губы. В минутах прогулки Юра забывал о том, что она в инвалидном кресле и способна на немногое, но ещё чаще он забывал, что не замечает этого. Он водил по бумаге следы, забывая хоть раз моргнуть или убрать чёлку с глаз. Всё пустячно.
И когда курьер очнулся, прижавшись щекой к бумаге, повсюду были разрисованны те самые губы в семи вариантах улыбки и часы показывали четыре часа ночи. Сонно Юра взглянул на свою работу, потрепал себя за волосы и с глупым счастьем на лице уснул дальше. Всё там же. Это было забытое им счастье: в кого-то всматриваться, портить бумагу не помня себя, вместо сна только рисовать и рисовать, пока не получится то, чего он хотел. А хотел не знал чего. Только облегчение от чего-то вдруг появлялось, когда Юрка смотрел на свои наброски и думал – «нравится».
Эти губы мне нравятся.
На бумаге, в мыслях, в жизни.




