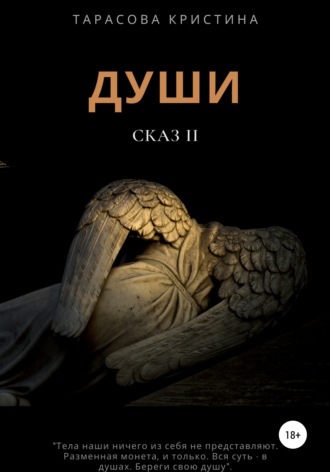
Кристина Владимировна Тарасова
Души. Сказ 2
Спаситель
Её лицо грустит, а перспектива авантюры удручает. Не желает ни завтрака в зале, ни прогулки по саду.
– И то, и то, – задорно говорит девица, – предпочту исполнить дома!
Добавляю, что прибудем мы только к ночи. И – за неимением слуг – придётся готовить самим. Может, перекусим…? Луна извиняется, что нарушает мои планы и привычный порядок идущих дел, но место это дышит фальшью, грязью и стыдом, а потому она не в силах больше притворяться. Роскошь – не порок. Порочны люди.
– Мы не святы, – лишь уточняю я.
– Ты мой супруг, наш брак – святое.
Девочка отрывается к зеркалу и поправляет рукава и плечи. Я же замечаю цвет зелени у оборки платья. Она была в саду…была в саду, а потому расстроена и юбка потому в траве. Приглядываюсь к красующемуся стану: гордой выправке, смелому лицу, влажным, стегающим по пояснице, волосам.
– Мне не о чем волноваться? – спрашиваю я.
Однако уже волнуюсь.
Награждает продолжительным и удручающим молчанием.
– Твои волнения мне неведомы, – говорит девочка. Холодно. – Я не усмирю твою душу, если ей неспокойно.
Этим словам требовалась причина, этим эмоциям – следствие. Отвечаю:
– Ты в состоянии. Ты знаешь.
– Словами, Гелиос?
Оборачивается и кусается взглядом.
– Мне утешать тебя словами? Я понимаю, что вопрос твой не из воздуха возникший, а потому спроси по-иному! – словно бы обижается, что я не понимаю… – Спроси по-иному или переживай сам, внутри! Наберись храбрости и задай чёртов вопрос!
Отворачивается и заплетает волосы. Обыкновенно их заплетаю я. Не выдерживает и бросается в слёзы. Незамедлительно бросаюсь успокаивать. Луна порывисто объявляет, что не должна была этого говорить, не должна была хоронить тревогу, не должна была отталкивать и рычать. Собираю соль с покрывшихся румянцем щёк.
– Всё это место – грязь, и ты в её числе! – ругается Луна. – Как смириться с этим? Как смириться с мыслью, что ты во мне видишь целый мир, а другие видят шагающую подле плоть? Я слышу, о чём они говорят, думая, что ни единое слово на вашем проклятом полумёртвом языке жена-послушница не понимает.
– Я отходил под солнцем больше полувека, жена, – говорю я, – а потому смею заметить, что ни суждения, ни взгляды, ни тем более мысли посторонних меня не интересует. Всё блажь и напускная пыль.
– Тебя не задевает?
– Мне плевать. И тебе тоже, – улыбаюсь я. – Всего лишь свет от этих мерзких жёлтых ламп заставил усомниться, не страшно. Скажи мне, – выдавливаю следом. – Есть причина, по которой я должен истинно переживать?
– Если и есть – переживёшь, – прыскает ядом.
О, зря, Луна.
– Ты виделась с ним?
Напираю и прихватываю за руки, чтобы не убежала. Отступает спиной и лопатками прижигает дверь.
– Считаешь, у причины есть имя?
Не пугается, рычит.
– У твоей причины всегда одно имя.
– Кем ты меня считаешь? – обижается. – Эти жёлтые лампы ослепили и тебя? Считаешь, я сбегала на свидание с мясником, что продаёт женские тела подобно туши в лавке с нарочитым званием Монастыря?
Наклоняюсь и захватываю её некогда белоснежное платье, поднимаю ткань и являю позеленевший подол.
– Не желаю думать о тебе плохо и думать не буду, – говорю я, – но ты была в саду (сейчас же от моей компании отказываешься) и настроение твоё испорчено (не спорь). Какие догадки я могу строить?
Луна извиняется, а я отпускаю юбку.
Прошу, не могла ты наглупить, не могла…Ты умная девочка, Луна. Зачем ты так?
Вздыхает и припадает к груди. Молчит.
Зачем ты так? Что сделала? Отчего плачешь?
За секунды всё в голове переворачивается, всё скручивает – тело, нутро, мысли. Не могла ты сглупить…
– Всё в порядке, – заключает девочка. – Можешь не опасаться за честь жены. Я гуляла по саду, правда, но компанией упомянутого награждена не оказалась (попросту не видела его). А настроение…злополучное место, ты сам ощущаешь. Здесь либо грешить, либо не быть.
Приглаживаю черничные волосы. Не следовало сомневаться в ней. Извиняюсь за дурные суждения и признаюсь:
– Это ревность.
Которая, как представлялось, иссохла множество лет назад на дне кувшина подобно затхлой воде.
– Ты ревнуешь меня? – переспрашивает девочка. – Мне думалось, опасаешься за имя Солнца, за репутацию клана.
Улыбаюсь очаровательным мыслям. Но, увы, клан Солнца очернял себя много раз до этого моим собственным распутством, в то время как иные родичи работали на благо семьи.
– До сумасшествия, – однако признаюсь. – Никто не смеет посягнуть на моё. Никто не справится с нравом моей дорогой жены, что не может не радовать.
– Ревновал ли ты прежде?
Мне хочется сказать «до одури», но это уже другая история. Пытливая морока в несколько лет с глупым финалом, не должная коснуться её милого лица и ласкового характера. А потому я упоминаю крохотную часть из жизни «после»:
– Ревновал Стеллу, когда та связалась с Хозяином Монастыря.
Луна притупляет взор и кусает губы, заправляет волосы и нервно поддёргивает плечами. Слишком откровенно и показательно, а Луна – не открытая книга, чтобы так себя выдавать; беспокойство сбивает её и являет миру незащищённой.
Очнись, девочка.
– Скажи, что волнует, – велю я и руками обхватываю спицы рук.
Луна как редчайший фолиант, которым мечтают овладеть лучшие из коллекционеров, и в том их ошибка. Она – не дар, не украшение, не личное достояние. Она разобьёт их всех одним взглядом.
А Ян…если Луна – книга, то Хозяин Монастыря ещё не выучился читать.
– Скажи, что беспокоит, – повторяю я.
– Поймала себя на глупой мысли.
– Ты осознаёшь её глупость?
– Более чем.
– Озвучь.
– Подумала, что ты и Ян – отвратительный пример нездоровой соревновательной дружбы, в которой каждый пытается переплюнуть другого. Он украл твою сестру, а ты украл меня?
– Глупость, – констатирую я. – Твоя правда.
– Прости, если обидела.
Пожимаю плечами:
– Сам спросил.
– Значит, сестра твоя… – подбирает слова, – общалась с Хозяином Монастыря? Насколько близко?
– Настолько, чтобы сейчас мы могли ненавидеть друг друга.
Луна хмурится.
– Прости, если обидел.
– Сама спросила, – смеётся девочка и схоже жмёт плечами. – Ты не расскажешь, что случилось со Стеллой?
– Почему же с ней что-то случилось?
Предполагаю, кто-либо мог поведать штрихи из биографии клана Солнца. То сковывает, удручает. Следовало рассказать самому…
– Потому что я не наблюдаю её сейчас возле нас или Хозяина Монастыря. Потому что на мне её платье, а, значит, боль утраты приутихла, и ты смог расстаться с вещами. Потому что Хозяин Монастыря позволил себе вновь влюбиться.
– Рубцы не болят, пока их не трогаешь.
– Запомню.
Девочка освобождается от рук-пут, словно бы стряхивая их с себя, и проходит к балкону. Свежий воздух наполняет лёгкие, а ветер ласкает её ласковое лицо и щекочет босые ноги. Выхожу следом – смотрим на сад.
– Ян присутствовал на вчерашнем вечере? – спрашивает Луна.
– Тебя в самом деле интересует дьявол? – вопрос на вопрос её не устраивает, а потому девочка окатывает холодным взглядом. – Был, – признаюсь я. И – на загрустившее лицо – добавляю: – Он шёл к нам, когда мы отправились танцевать. Теперь переменишь своё отношение к этому моменту?
– Сколько ты выпил? – восторгается девочка и хватает за рубаху. – Что значит «переменишь»? Ты, дурная твоя голова, Бог Солнца, лучшее из того, что случалось на этом тошнотворном вечере (помимо закусок, цветов и колонн), – она задорно смеётся, и я узнаю прежнюю Луну. – И поцелуй этот разве что перебьёт поцелуй в саду резиденции Солнца. Что ты желаешь услышать? О, нет! – и она театрально запрокидывает голову и прижимает тыльную сторону руки ко лбу. – Ты слышишь этот звук? Слышишь? То звон рассыпающегося доверия. Или нет? Может…Может, это звук твоих шагов и шагов Хозяина Монастыря, уносящие вас к чертям от меня, золота?
– Ты ругаешься? – восторгаюсь я.
– Из всего сказанного ты заметил лишь то? Влюблённый самодур, право.
Улыбаюсь и целую её улыбку. Девочка садится на парапет и обвивает шею.
– Нас могут увидеть, – предупреждаю я, а внимаю обращающим внимание взглядам, что несут тела вдоль парковочных мест. – О, уже смотрят сюда.
– Когда ты успеваешь всё видеть, если видишь лишь меня? Я твоё солнце, зри.
Девичьи руки ласкают тело и подбираются к душе. Лукавая, змеиная; я обращал её в желаемое, она напитывалась необходимым. Детское озорство в секунду сменялось женской обольстительностью – такой тягучей, сильной, роковой. Она смотрела – опасно, удушливо – и роняла к ногам. А через мгновение хохотала и била по плечу.
– Смотри на меня, – приказывает Луна. – Смотри на солнце своё и позабудь иных. Сделай благое дело, – вдруг смеётся, – добавь азарта для следующих бесед, окати первый этаж смятением и сплетнями, вызволи для них ящики спиртного и злые языки.
Она обхватывает ногами торс и цепляется руками за спину (дрожащая, ласковая); подхватываю её и, прижимая, уношу с балкона.
Луна велит – своими движениями, истинно – ступить к кровати и нежно опустить. Накрываю следом и целую покрытые тканью плечи, но – удар! мысль! – отстраняюсь и резво отхожу. Наблюдаю испуганные глаза. А мгновением ранее почувствовал дрожащее тело; потому отступил. Она не готова. Делает то из-за взглядов иных смотрящих или из-за собственной досады после бесед. Назло Хозяину Монастыря, который хотел обладать ей и не смог. Назло мне, который не хотел обладать ей и заполучил. То были не страсть и желание, девочка к ним не готова: навязанное мнение, стереотип, тоска. А ещё это проклятущее сестринское платье…Как его снять, если ткань некогда облачала самую недоступную из существовавших в пантеоне богинь?
Отшучиваюсь о спектакле и спешу накинуть пиджак. Она не готова. Не готов и я.
– Я разговаривала с Богом Смерти, – признаётся Луна. Всё-таки добиваюсь её признаний! Ненамеренно, уже не желая того. Обращает свой взор и бросает ядовитое: – Просил передать привет.
– Передала? – издеваюсь я.
– Не хочу этого делать.
К глазам её в который раз за сегодняшнее утро накатывают слёзы. Либо она ощущает, либо знает.
– Почему после разговора с ним на душе так тревожно? – спрашивает Луна и обнимает себя за колени.
– На душе или на сердце? – спрашиваю я и сажусь подле.
Едва касаемся плеч. Мы оба понимаем, что это значит. Чувствуем.
– Не хотела с ним говорить вовсе.
– Но говорила.
– Я защищала нас.
Смотрю на горделивое личико.
Это правда.
– Расскажи о нём.
– Нет смысла. Человек, который не верит в силу второго, не объяснит, отчего сотрясаются другие.
Луна…
– Его боятся? – спрашивает девочка.
– Боятся и опасаются. Беседы напрасные не заводят, на празднества не зовут, к прибытию относятся скептически. А ещё слагают легенды и верят в приметы.
Смеюсь:
– Боги, да!
– Например? – выпытывает девочка.
– Не упоминать имени, иначе он наградит визитом.
Луна задумывается и – словно бы – что-то вспоминает. А я вспоминаю (до меня доползли слухи), как сам Ян, прознав о приближении Бога Смерти, направил девочку в покои Ману. Весть эта дошла до меня из-за формата просьбы: он вымаливал то на коленях, в монастырском саду, под пристальным наблюдением десятков послушниц.
– Я не верю в приметы, как это случается с Хозяином Монастыря, – обращаюсь к жене. – Он прятал тебя в Монастыре от глаз Бога Смерти, знаю. В том ещё одно несносное поверье. Бог Смерти не может забрать того, кого не видел в лицо. И Бог Смерти не видел тебя.
– Сегодня урвал целый разговор.
– Это ничего не значит. Приметы, поверья, сказки – всё глупости, говорю же.
– Ян – верующий? – прыскает со смеху Луна. Ядовито, неприятно. Напоминание о душегубе всегда отравляет её: доброе лицо и ласковый нрав оказываются очернены.
– В отличие от твоего мужа-атеиста.
– Что он, что ты? Не сравнивай! – велит девочка.
Укол приводит в чувства. Она встаёт с кровати и наступает, равняется и с преисполненными уверенностью глазами, продолжает:
– Он разрушает и смысл его жизни в торговле на мясном поприще. Ты же созидаешь и спасаешь.
Вздыхаю:
– Так было не всегда.
Должна знать…
– А мне плевать, понял? Сейчас ты такой.
Разве же? Не скажу, что в действиях моих не было умысла и эгоизма.
– Сейчас такой и, кажется мне, жена твоя никогда не сможет отблагодарить супруга за свершённое: за явленные возможности, за покрытые истины, за красоту мира в его доведённой до безобразия форме, за мудрость и понимание. За всё это.
– Мы с тобой не на рынке, Луна, – ругаюсь следом. – Принцип отношений в абсолютно от сердца идущем желании осчастливить другого. Без мыслей о взаимном.
– Но я желаю твоё добро приумножать, желаю тобой отданное воздавать в тысячекратном объёме.
Так она говорит о любви из старого наречия. И слова её, связываемые в плотные узлы, ласкают слух и треплют воображение. Говорит она складно, ловко, умно, размашисто. Мне льстит мысль, что девочку обучал я. Но, не могу не признаться, напитывалась знанием и рвением она сама. Раскрытие таланта у талантливого – заслуга учителя или ученика?
Ловлю девичье лицо и прошу выслушать:
– А ещё, Луна, позабудь единственно существующую истину мира, в котором мы живём; давай вообразим свой и свои. Позабудь, что тело – возможная и удобная валюта, и никогда ею не расплачивайся.
– О чём ты?
Кажется, в самом деле не понимает. Надумал…? Может ли девочка сейчас оскорбиться?
– Ты не должна мне, – объясняюсь резко. – Ничего не должна, запомни. Будь собой.
– Прости, если спровоцировала подобные мысли.
Взаправду извиняется…?
– Но целовать, – колит следом, – желаю от прихоти сердца, а не для прихоти головы. Я с тобой не в благодарность, Гелиос. – Гордый взгляд ударяет пощёчину; я восторгаюсь её самолюбием и уверенностью. – А потому что выбрала.
Улыбаюсь прекрасному суждению. Не могу назвать её выбор отсутствующим выбором, ибо девочка эта могла свернуть горы и сразить любое сердце.
– Я выбрала тебя, – говорит Луна. – А ты выбрал меня. Боги подсобили нашему союзу, – лицо берёт хитрый прищур. – Мне хорошо с тобой, разве этого недостаточно?
– Только этого и достаточно, – соглашаюсь я.
Мы собираемся и покидаем резиденцию Бога Жизни. Девочка, наперерез шагам, восклицает:
– Почему же мы не поздоровались с хозяином устроенного приёма?
Признаюсь, что хозяин приёма никогда не является к приглашённым. Как и на иные встречи. Никогда не показывается у кого-либо и даже у себя.
– Он вообще существует, этот Бог Жизни?
– Больше всего в наших головах и сердцах, – извилисто отвечаю я и подзываю Гумбельта, дремлющего на скамье неподалёку от скопища машин.
– В лицо ты его не видел? – не унимается молодая жена.
– Не видел, – вздыхаю, – но и отрицать существование не стану. Мою жену тоже долгое время никто не видел, однако…
Девочка улыбается и заползает на диванное кресло авто. Сажусь подле и поспешно прижигаю губами макушку.
– Знаешь, что я слышал вчера? – решаю поделиться с женой самой душу терзающей мыслью. – Я слышал, как некто говорил: «Солнце на закате из-за восхождения Луны». Как тебе такое, а?
Луна пожимает плечами и вместе с тем говорит:
– Предпочту пройти уготованный путь вместе.
– Я о том же.
Но она понимает: знаки эти игнорировать нельзя. Нельзя!
День уходит на дорогу, а мы уходим на покой. Смотреть в окно и восторгаться уже виденным картинам ни силы, ни желания у молодой жены не остаётся. Она разваливается на диванчике, ноги забрасывая на противоположный себе. Рука моя – непроизвольно – при соприкосновении с лодыжками, обхватывает их поочерёдно. Луна засыпает под ненавязчивые ласки, а просыпается на закатном солнце, на руках, уже почти у дома.
Девушка
Я вижу деревню.
Конь – отливающий на солнце графитом – рассекает поле, полное трав и колосьев. Нефтяные жирафы метрономами отсчитывают дни до кончины истребляющего себя поселения.
По левую руку от меня чёрные воды и сухие клоки вместо крон, по правую руку от меня дышащее цветами пространство.
И несущийся конь делит собой миры.
Хочу обратиться к Богу Солнца, но понимаю, что его рядом нет. Кто подскажет? Взмахиваю рукой (на мне белое платье; но не Стеллы, нет), и конь взирает в ответ, останавливается, гогочет. Спрашиваю, где могу отыскать супруга, а конь отвечает, что тот пожалует сам.
– Он прибудет с дарами, – продолжает зверь, – он принесёт войну.
– Какой же в том дар? – противлюсь я. – Желаю проснуться!
Спаситель
Голос мой позволяет ей не покидать мир сна. Луна одобрительно закрывает глаза и прижимается к груди. Я отношу девочку в её спальню и аккуратно укладываю на измятую постель.
На первом этаже меня ожидают письма, требующие ответа, и бокал сухого красного, требующий осушения.
Дела не отнимают много времени, отнимают думы: поглощают минуты, переходят на часы. Некто – вчера на вечере – обмолвился, что супруга моя явилась тёмной стороной сестры-солнца. Они словно были обрисованы единой кистью художника: Луна повторяла с точностью до наоборот все черты и повадки Стеллы. Однако больше я их сравнивать не мог. Луна шагнула дальше, Луна заполонила много больше; теперь – избавившись от проклятого, преследующего чувства удушья – я дышал и видел юную возлюбленную. Как глупо для своих лет.
Решаю перед сном прогуляться до сада. Налившиеся цветом плоды инжира свисают с тонких ветвей-прутов; я срываю один из них и по дороге до спальни одолеваю. Сладость расплывается по языку и сводит дёсны. Стоило же под закат жизни отдать этот остаток жизни неопытному сердцу…
Забираюсь в постель и отдаю себя сну, но, как оказывается, ненадолго.
Открываю глаза и наблюдаю: луна ползет по небосводу, а Луна ползёт по мне.
– Что случилось? – в полудрёме бросаю я и, дабы лицо девочки приняло очертания, потираю глаза.
Она пришла: залезла в постель и села подле. Бледная кожа светилась от лунного света, чёрный пеньюар оголял острые плечи и мягкие бёдра. Спрашиваю, выспалась ли девочка и чем обязан визитом. Вместо ответа она прикладывается к губам, а я, не смея противиться красоте и вмиг назревшему желанию, целую её в ответ. Девочка вьётся по телу и меж одеял, руками впаивается в руки и жмётся грудью к груди.
Порочный круг остановлен, замкнутая петля расцепляется – теперь мы есть взаправду.
Луна танцует под взглядом покровительницы и насыщается её силой. В ладонях растапливаю песочные часы её талии и время замирает в самом деле. Она смотрит – но не отстранённо, как это было когда-то. Не пьяно. Не ядовито, но отравляюще. Она смотрит – подсаживая на иглу со своим именем.
Луна.
Просыпаюсь первым. Гляжу на теплящееся под боком создание, что переворачивается с бока на бок и обхватывает меня за руку. Глажу бесконечные волосы, контрастом лежащие вдоль белых наволочек. Луна открывает глаза и по-доброму улыбается.
– Привет, – здоровается она.
Так просто.
– Привет, – говорю я.
Девочка засматривается на рисунок в области ключиц. Вдоль костей пара львов со знаком восхода солнца и иероглифом, обозначающим «небо».
– Что значит эта? – спрашивает Луна и очерчивает пальцем контур кошачьих.
Повествую известную мне мифологию и объясняю символизм обозначенных тварей и фигур. Обводит иероглиф, напирает на грудь и взбирается поверх, бёдрами сжимает бёдра и вырисовывает следующие рисунки.
– Продолжай, – велит девочка.
По левой груди выбиты цитирующие основание храма Солнца клинописные таблички, по правой – очередные иероглифы. Под рёбрами удерживаются подобие быка и создание, восседающее на троне, с соколиной головой. А по солнечному сплетению, какая бы гнусавая и насмешливая игра слов не получалась, вбито графическое, заключённое в выцветший от лет диск, солнце.
Самый крупный рисунок – на спине – любознательной знаком. В первую ночь объятиями её накрыли распахнутые орлиные крылья.
– Я тоже хочу украсить своё тело подобным, – признаётся Луна и на уговоры, что её тело без того прекрасно, не поддаётся: – Но оно остаётся моим: желаю!
Единственный рисунок, который бы подошёл ей – оплетающий стан змея. Подруга к подруге. Потому что её скользящий при лунном свете силуэт выбросить из головы не получается…
– Мне удалось утолить твой голод к новым знаниям? – вопрошаю следом.
– И не только к знаниям, – лукаво бросает Луна и сцепляет руку на горле.
– Осторожно, – предупреждаю молодую жену об использованном жесте, – ненароком можно овдоветь.
– Не мне говорить об удовольствии от обладания и как это сводит с ума, – говорит она. – Но я могу… – сильней сжимает руку: под пальцами пульсируют жилы, – делать так. И ощущать, что ты принадлежишь мне.
– Верно, Богиня Солнца, – соглашаюсь я, предвидя грядущие войны. – В пантеоне жаловать не будут: за жадность.
– Тебя же терпят, – язвит девочка. – Кто посмеет тронуть молодую жену из клана Солнца? Кому из паразитов ты отломаешь хотя бы взгляд?
Ощущает под рукой нервное глотание, видит дрогнувшие скулы (отчего ведёт по ним пальцами), сталкивается с полным ревностью взглядом.
– Не зли, – говорю я – спокойно, но увесисто, а девочка, запрокинув голову, смеётся. Она ожидала.
Нет. Она ждала. Змея, истинно.
Она…
Склоняется к лицу и, приласкав волосами, выдыхает в губы. Молю о поцелуе, которым девочка не насыщается. Улыбается – змееподобно – и отстраняется – вовсе. Распахивает не до конца задёрнутый балдахин, поправляет сплясавшие на плечи лямки от пеньюара и бедром прижигает трюмо, возле которого смотрится в зеркало и руками прочёсывает густые черничные волосы.
– Можешь подать завтрак, – равнодушно бросает Луна.
– Могу? – подхватываю.
– Мне нужно одеться.
– Меня устраивает это платье.
– Его отсутствие устраивало бы тебя больше, но всё же предпочту сменить наряд.
Девочка покидает спальню, а словно бы голову. Трезвые мысли отходят, накатывает безумство. Не позволю ныне пренебрегать стенами этой комнаты и баловать присутствием иные. Затащу антилопу на своё дерево.
Луна спускается на завтрак. Та Луна, какой я знал её все дни до этого: тишайшая, улыбчивая, любознательная, покладистая. Её прыгающий нрав тешил женское самолюбие, уподобляя мужское самолюбие примитивному рвению. То была игра. Не думалось мне, что за скромным лицом столько буйства и красов.
Велю подойти и, взяв за талию, усаживаю поверх обеденного стола.
– Как это понимать? – спрашивает Луна.
Вызволяю уготовленные инструменты: чернила и иглы.
– Выбирай место, – говорю я.
И девочка прижимается пальчиками к области между двумя наливными дольками груди.
– Уверена?
– Ты там. Уверена.
И девочка расстегивает верхние пуговицы жёлтого платья.
Её красота смеет принадлежат лишь мне, как этим не упиваться?
Укалываю впервой: брови хмурятся, по лбу ползёт морщинка. Приказываю терпеть и ставлю вторую точку, после чего наполняю её чернилами.
– В порядке? – уточняю перед третьим уколом. – Сильно больно?
– Боль от любимых женщины готовы терпеть до безумия долго, – улыбается Луна.
Улыбаюсь в ответ и продолжаю. Её правда.
По окончании процедуры на девочке является из-под вырисованной линии горизонта рассветное солнце. Или закатное? Припухлая краснота не сползает ещё несколько дней…
А затем мы вязнем в лабиринте. Выказав желание отведать гранатов – спелых, блестящих на солнце – уносимся в сад. Я смотрю на Луну, что тянется за дальним, лопнувшим от своего сока и обилия ягод внутри, плодом, срывает его и радушно показывает мне. Однако на протянутую руку утаивает гранат за спиной; игривая улыбка колесит сияющее личико.
Спустя недели наших похождений за гранатом на лужайке вырисовываются силуэты некогда восседавших тел. Дерево остаётся целым; сколько плодов было собрано взаправду?
Я целую плечо спущенного платья, а она поправляет юбку на бёдрах. Сложно представить, чтобы кто-то ещё смел наблюдать за её очаровательными движениями; чтобы кто-то ещё взирал на линии выточенного тела и прижимался губами к мягкой коже на ключицах. Я ревновал, подстрекая самого себя мыслями, и удивлялся глупости незнакомого (каюсь, позабытого) чувства.
Луна хватает брошенный подле нас гранат и надавливает на уже давшую трещину кожуру. Сок бежит по пальцам – алый, кислый; и я слизываю его. Девочка направляет зёрна в рот.
Не удержавшись, очередная печать вливается в её сладкие губы.
– О, бог мой, – то ли обращением, то ли воззванием смеётся Луна, – тебя не остановить?
И я признаюсь, что так сложилось: мне нравилась моя жена.
– Хорошая, наверное, женщина, – забавляется Луна и прикусывает налитые кровью губы.





