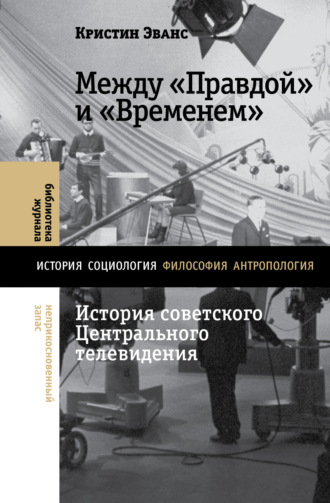
Кристин Эванс
Между «Правдой» и «Временем». История советского Центрального телевидения
ЗАСТОЙНЫЕ И НОВАТОРСКИЕ 1970‐е
Тот факт, что советские «длинные 1970‐е» – полтора десятилетия с 1968 года до начала 1980‐х – были более экспериментальными по сравнению с предыдущим десятилетием, требует некоторого пояснения16. В прежней концепции, самым известным сторонником которой был Михаил Горбачев с момента его восхождения на вершину руководства Компартии в 1985 году, отрезок между 1968 и 1985 годами рассматривался как более или менее непрерывный период культурных репрессий и ресталинизации, а также застойного, или нулевого, экономического роста17. Слово «застой», ставшее расхожим благодаря самому Горбачеву, превратилось в краткое обозначение тех лет, объединяющее в себе сразу несколько взаимосвязанных фактов и тезисов: отказ от экономических реформ, усиление цензуры в искусстве и СМИ, неспособность реагировать на важные социальные и технологические изменения во внешнем мире. В последнее время подобная характеристика того периода подвергается со стороны ученых критике – за то, что она слишком тесно связана с программой Горбачева и политикой холодной войны, чтобы быть полезной для современных исследователей; за то, что она основана на ряде ложных дихотомий, таких как «официальная культура – неофициальная культура»; за то, что затушевывает большую часть реальных политических, экономических и социальных изменений, неизбежно происходящих в жизни любой страны на протяжении почти двадцати лет, и вследствие этого попросту не отражает жизненного опыта большинства советских граждан, для которых 1970‐е годы были не менее, а иногда и более насыщены событиями, чем любое другое десятилетие18. К тому же, как отмечали некоторые авторы, термин «застой» может подразумевать, будто в советской общественной жизни того времени и вовсе ничего не происходило, тогда как на самом деле то время было отмечено значительными событиями, относящимися к холодной войне, реальными сдвигами в сферах высокой политики и культурной жизни, а также серьезными социальными и экономическими изменениями19. Эта интерпретация «застоя» как «бессобытийности» меньше всего подходит для описания советской культуры тех лет. Утверждение, будто брежневские годы были временем культурного, а также экономического застоя, основано на допущении, согласно которому вся та бурная культурная жизнь, что происходила в 1970‐х годах в частных квартирах и других не- или полуразрешенных местах, была исключительно частной и неофициальной, полностью оторванной от общественной культуры и контролируемых государством театров и СМИ20. В этом утверждении, кроме того, выводится за скобки удивительно живой мир советских СМИ, кинематографа, популярной литературы и музыки – как простых развлечений, лишенных политического или иного исторического значения.
Однако, вместо того чтобы категорически отвергать термин «застой», не лучше ли его переосмыслить? Стоит понять «застой» как ключевое, конституирующее настроение – как интерпретационную линзу, через которую люди рассматривают свою жизнь, – он обретает ряд преимуществ21. Во-первых, «застой» отражает вполне реальное чувство неудовлетворенности, иронию, политическую отстраненность – часто вспоминаемые черты брежневской эпохи. А как показали Джонатан Флэтли и Марк Стейнберг, подобные меланхолические чувства не исключают (и, более того, могут даже способствовать) открытости новым связям и способам существования в мире. Обращая наше внимание на это аффективное измерение, понятие «застой» позволяет исследовать переплетение идеологических, социальных, экономических и политических проблем, породившее страх советского государства перед народным недовольством и стремление создать такие телевизионные программы, которые могли бы уделять внимание этим проблемам. Как убедительно доказала Юлиане Фюрст, многие из аффектов и установок, связанных с застоем, были очевидны уже в конце сталинской эпохи22. Понятый как настроение и комплекс взаимосвязанных проблем, застой мог наступить в разные моменты и до, и после 1991 года.
Но еще важнее, что сохранение термина «застой» помогает связать советские 1970‐е с глобальными политическими, экономическими и идеологическими тенденциями 1970‐х годов, которые также были отмечены политическими репрессиями и недовольством, экономическими кризисом и дискомфортом и, соответственно, расцветом (якобы) частных идентичностей и форм самовыражения. Повышенная стабильность и политическая контролируемость советских 1970‐х были частью гораздо более широкого явления – внутренних репрессий в ответ на социальные волнения 1960‐х. Разрядка – стремление к балансу сил и большей стабильности во внешних делах – также была, по выражению Джереми Сури, «конвергентной реакцией на разлад между великими державами»23. Отказ от политических целей, уклон в сторону потребительской идентичности и частной самореализации, приватизация политики – все это после 1968 года характеризовало жизнь во множестве стран по обе стороны железного занавеса; эти тенденции получили яркое выражение в телепередачах, фильмах и популярной музыке, которые явным образом их поддерживали24.
Недавние исследования о 1970‐х годах как в Восточной, так и в Западной Европе показали, насколько существенными и значительными были эти трансформации в популярной культуре и политической жизни после 1968 года25. В ходе этих трансформаций были переосмыслены на новых условиях политика и культура, была заложена основа нашей нынешней эпохи, которая тоже характеризуется циничным отношением к ценности общественно-политических деятельности и институтов и репрессивным стремлением демократических и недемократических режимов к внутренней политической стабильности. Таким образом, 1970‐е годы в Советском Союзе, как и во многих других странах, были периодом усиления как репрессий, так и экспериментаторства26. В государственных СМИ ключевой площадкой для этой политически новаторской работы было телевидение, в особенности развлекательное, – та сфера личных и локально-коллективных удовольствий, воспоминаний и эмоций, в которой стремилось теперь обосноваться советское государство, учитывая, что традиционные общественные ритуалы и язык все больше утрачивали смысл. В конце концов, именно эксперименты на Центральном телевидении – со всеми их ограничениями и искусственностью – предвосхитили и обусловили судьбоносные эксперименты Горбачева с советской системой после 1985 года.
Сотрудники Центрального телевидения 1960‐х, 1970‐х и 1980‐х все чаще понимали свою работу как раз в терминах экспериментаторства: «эксперимент», «игра», «новаторский» и «творческий» были главными словами и на внутренних совещаниях, и в мемуарах работников телевещания – как в отношении телевизионного производства, так и, особенно в случае с «игрой», в качестве преобладающего метафорического обозначения собственной роли в советской политико-идеологической системе. Метафора игры стала все более распространенной с конца 1970‐х годов, когда старение Брежнева сделало возможными возникновение открытого конфликта в высшем партийном руководстве и, следовательно, появление новых форм игры и импровизации внизу. Эти конфликты прорвались в прессу во второй половине 1980‐х, резко расширив рамки игры для сотрудников Центрального телевидения – и повысив в ней ставки.
Такое особое понимание себя как новаторов и участников игры позволило сотрудникам Центрального телевидения адаптироваться к политической обстановке после 1968 года, сохранив при этом идентичность, выработанную в 1950‐х, – идентичность наследников революционного авангарда27. «Экспериментирование», «новаторство» и «игра» могут проходить в строгих границах, на заранее определенных полях игры; ни первые, ни вторые, ни третья не требуют изменения политических и экономических структур. Советское государство давно осознало полезность поощрения граждан к «новаторству» в рамках плановой экономики – как способа отвлечь внимание от структурно-политических проблем28. Как заметил Иоахим Цвайнарт, в брежневскую эпоху поощрение государством дискуссий и новаторства в строго определенных границах было способом усмирить и занять ученых, не позволяя им выступать с более серьезной критикой и предлагать реформы29. И действительно, «творюг» (как они сами себя называли) из редакций программ для детей и молодежи, музыкальных программ и литературно-драматических программ Центрального телевидения можно узнать в портрете, выведенном в известной песне Константина Кинчева «Экспериментатор» (1985). Экспериментатор Кинчева – во многом часть системы: со злой иронией повествователь изображает «идеально выбритого» экспериментатора, который «видит простор там, где мне видна стена» и научно-социалистический оптимизм которого контрастирует с его, повествователя, горьким пессимизмом30.
Вместо того чтобы сбрасывать со счетов амбиции этих советских телевизионных экспериментаторов, мне хотелось бы подчеркнуть их связь с более общим процессом игровизации глобальной медиасистемы и, более того, политической и культурной жизни, который начался в 1970‐х годах как в социалистическом, так и в капиталистическом мире31. Поиском «новаций», которые могли бы решить социальные проблемы в отсутствие фундаментальных политических или экономических изменений, характеризуется не только поздний социализм, но и поздний капитализм. В то же время эти эксперименты могли иметь реальные последствия, включая резкие структурные изменения в социалистическом блоке. Как раз в 1970‐х, когда Центральное телевидение экспериментировало в развлекательных программах с голосованием зрителей и националистической ностальгией, китайское коммунистическое правительство начало экспериментировать – в столь же ограниченных масштабах – с рыночной экономикой32. Здесь я вслед за Анико Имре стараюсь не впасть в крайности оптимизма или пессимизма относительно значения того, что она назвала «смешением потребления, удовольствия и игры с гражданственностью и политикой», характеризующим последние пять десятилетий33. Это смешение, начавшееся на советском Центральном телевидении почти в то же время, что и на капиталистическом Западе, не было ни искренним принятием демократической процедурной политики, ни сугубо циничным симулякром, призванным предотвратить подлинные демократические изменения. Напротив, оно, как утверждали Имре, Брайан Саттон-Смит и Стивен Коннор, выполняло функцию всякой игры вообще: поддерживало двусмысленность и двойственность, сохраняя тем самым возможность перемен34.
Вот почему столь разную судьбу имели советские телевизионные эксперименты 1970‐х годов в постсоветские десятилетия. Какие-то из них стали базовыми элементами путинского телевидения; так, ежегодная прямая линия сильно напоминает пространные ответы на письма и звонки телезрителей, произносившиеся с экрана известными ведущими новогодних музыкальных программ Центрального телевидения 1970‐х35. Другие, как, например, визуально, музыкально и политически экспериментальные новостные программы конца 1980‐х, которые сами были непосредственно основаны на визуальных и формальных конвенциях телеигр 1970‐х, сегодня подвергаются анафеме как прямая причина распада СССР и, следовательно, имперского упадка России. Третьи, такие как телеигра «Что? Где? Когда?» (1977 – наст. вр.), выходящая в прямом эфире поздними вечерами по нескольку раз в год, продолжает занимать лиминальное положение, по-прежнему способствуя игровым противостояниям между меняющимися элитами и зрительской аудиторией.
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СОВЕТСКАЯ САМОБЫТНОСТЬ
Масштабные исторические процессы связали советские 1970‐е с глобальными 1970‐ми, включая разворот великих держав против внутреннего инакомыслия в конце 1960‐х и закат упований «левых» на историческую роль рабочего класса. Но и более непосредственные факторы транснационального взаимодействия тоже имели огромное значение для развития и производства советского телевидения, равно как и для телевидения Восточной и Западной Европы в целом36. Взаимообмен и заимствования друг у друга происходили постоянно. Проведенные в 1970–1980‐х годах исследования транснационального обмена программами показывают, что Первый канал Центрального телевидения транслировал относительно немного иностранных программ, особенно по сравнению с другими восточноевропейскими телевизионными системами: иностранная продукция составляла всего 5–8% его сетки вещания. Однако эти обмены приносили на советские экраны восточноевропейские и, реже, западноевропейские, североамериканские и другие зарубежные передачи37. Кроме того, как показала Кристин Рот-Эй, Центральное телевидение перенимало телевизионные форматы у восточноевропейского телевидения, которое, в свою очередь, заимствовало их у западноевропейских служб вещания. Взаимодействие и взаимное влияние принимали множество форм и помимо прямого обмена программами, будь то частные показы зарубежных передач для телепродюсеров, журналистский и научный анализ зарубежных программ или, скажем, личные отношения между советскими и зарубежными телевизионщиками.
Более того, советское государство решило инвестировать в национальную телевизионную сеть значительные средства, и было это связано с тем, что в 1950‐х – начале 1960‐х годов телесети считались менее уязвимыми для «дальнобойного», трансграничного вражеского вещания38. Другими словами, сама вера в то, что телевидение может служить надежным государственным средством массовой коммуникации, с самого начала была ответом на более общие, международные вызовы. По замечанию Мишель Хилмс, государства мыслили телевещание как своего рода «национальную циркуляционную систему», сдерживающую международные угрозы, которые исходят от иностранных радиостанций и голливудских фильмов, и «доставляющую знаки и символы национального воображаемого – сквозь географическое пространство – в индивидуальные дома и умы». Однако эти соображения внутригосударственного характера всегда находились в противоречии с желанием «охватить» другие народы и позволить иностранному влиянию все же проникать в страну – по согласованию и под контролем39. Столь двойственные цели определяли решения советского Центрального телевидения в области составления программ и производства телепередач точно так же, как и решения Би-би-си и других государственных служб вещания в Европе.
Признание транснациональной культурной экономики, сформировавшей советское вещание, требует подхода, составляющего вторую особенность транснациональной истории медиа (Хилмс), – такого, в котором политическая, экономическая и институциональная история сочетается с текстовым и визуальным анализом телепередач. Советское телевидение создавало тексты большой сложности и представлявшие большой интерес как с эстетической, так и с политической точки зрения; в нашем исследовании производство и содержание передач Центрального телевидения будет рассмотрено сквозь призму и социальных, и гуманитарных наук, с одинаковым вниманием к политико-институциональным контекстам и к «вопросам творческого влияния, развития эстетических практик и форм, а также их социокультурной рецепции»40. Отнюдь не подразумевая, что только советское телевидение – как аномальный, социалистический случай – должно быть понято в его политическом и экономическом контексте, этот подход призван подчеркнуть заведомо политическую природу телевизионной культуры где бы то ни было, а также общие дилеммы, стоявшие как перед Центральным телевидением СССР, так и перед государственными и корпоративными службами вещания в Северной Америке и в странах Восточной и Западной Европы.
Но этот же транснациональный подход к истории вещания позволяет выявить и реальное своеобразие советских телевизионных программ в их социалистических и несоциалистических европейских контекстах. Несмотря на важность общих, транснациональных условий и взаимодействий, я вовсе не утверждаю, будто советское Центральное телевидение всего лишь подражало западным телевизионным стандартам – до 1968 года или после. Как показала Рот-Эй, советская массовая культура определялась противопоставлением западной массовой культуре; как и у западноевропейских государственных вещателей, намерения ее были просветительскими, но при этом она явно стремилась мобилизовать граждан на строительство социализма41. Заимствование глобальных телевизионных форматов, таких как телеигра или двенадцатисерийный мини-сериал, потребовало длительного процесса приспособления и переопределения, в ходе которого жанры, ассоциирующиеся с западной массовой культурой, были переосмыслены как чисто советские, зачастую путем увязывания их с авангардными традициями театра и кино. Особые качества, отличающие советские, социалистические телепрограмму или мини-сериал, формулировались и обсуждались в прессе. Будучи идеологическими работниками и находясь в самом центре советской системы СМИ, сотрудники Центрального телевидения также были непосредственно вовлечены в поиск решений внутриполитических проблем, как они видели их и как их ставили Центральный комитет Компартии и в конечном счете Брежнев – главный телезритель42.
Вопрос о своеобразии советского Центрального телевидения по отношению как к иным социалистическим телевизионным системам в Восточной Европе, так и ко множеству государственных и коммерческих телекомпаний на Западе осложняется тем, что сами режиссеры советского телевидения были склонны претендовать на оригинальность даже тогда, когда напрямую заимствовали телевизионные форматы у европейских коллег. Характерны мемуарные свидетельства о создании «Вечера веселых вопросов» (ВВВ) – первой сверхпопулярной игры Центрального телевидения: сперва мемуаристы рассказывают, как формат был прямо заимствован у чехословацкой телеигры (в свою очередь основанной на западноевропейской), а затем переходят к описанию игры как собственного творения sui generis, зарождения подлинно советского телевизионного жанра43. Кроме того, постсоветские мемуаристика и журналистика активно канонизировали некоторые программы и жанры Центрального телевидения в качестве исключительно российских и советских культурных ценностей, превосходящих, по их мнению, коммерческие продукты на современном российском телевидении. В этом процессе выборочной канонизации отражается культурно-гендерная иерархия, характерная для постсоветской культурной интеллигенции; передачи, которые считаются особенно оригинальными, особенно превосходящими западный масскульт, включая многие из тех, что обсуждаются в этой книге, зачастую показывали образованных героев-мужчин, авторитетных деятелей и были рассчитаны на образованных зрителей44. Таким образом, постсоветская дискуссия о «качественном» телевидении советского прошлого отражает многие из тех же гендерных и классовых предрассудков, что и аналогичные дискуссии в США и других странах, в которых одни программы – предназначенные для образованных мужчин, для относительно богатых зрителей – превозносились над остальными45.
Таким образом, описание особенностей советского Центрального телевидения требует тщательного лавирования между рассказами его создателей с присущими им претензиями на оригинальность и множеством замечательных новых исследований, показывающих сходства и связи между социалистическим телевидением в Восточной Европе и его аналогами за железным занавесом46. Вместе с тем у советского Центрального телевидения все же были и отличительные черты, проистекающие именно из постоянной обязанности его продюсеров отграничивать телевидение Советского Союза (по определению – лидера среди социалистических государств Восточного блока) от его западных и даже восточноевропейских аналогов. Так, например, советское телевидение и его аудитория не были полностью феминизированы47. Хотя Центральное телевидение и стало предметом потребления в домашних условиях, как показала Рот-Эй, оно во многом определялось давно уже непростыми отношениями Коммунистической партии с повседневной домашней жизнью, бытом48. Когда программисты Центрального телевидения говорили об аудитории дневных программ, они имели в виду не домохозяек (хотя советские домохозяйки существовали), а скорее школьников и фабричных рабочих, которые учились или работали во вторую (дневную, вечернюю) смену. Программы, специально адресованные женской аудитории, были нечастыми, притом что с середины 1960‐х годов Центральное телевидение уделяло большое внимание работе со многими другими сегментами аудитории, включая детей, студентов, солдат, селян, профессиональных работников пропаганды и энтузиастов, интересующихся наукой49. Для советских женщин, конечно, выпускались телепрограммы, посвященные моде, воспитанию детей, здоровью и вопросам потребления, но эти редкие передачи не формировали структуру программы Центрального телевидения и не определяли его культурную роль.
Разумеется, гендерное позиционирование телевидения как мужского, статусного средства массовой коммуникации не исключало успешной карьеры для отдельных женщин в эфире и вне его. Главную информационную программу Центрального телевидения «Время», равно как и большие праздничные шоу-варьете, вела пара ведущих – мужчина и женщина. Валентина Леонтьева, самая известная телеведущая конца 1950‐х – 1960‐х годов, оставалась в эфире более трех десятилетий. Да, ее роли зачастую были явно феминизированными (ведущая эмоционального ток-шоу «От всей души», ведущая популярной детской программы «Спокойной ночи, малыши!»), однако ее многолетнюю работу и всесоюзную известность невозможно отрицать. За кулисами женщины-продюсеры работали над созданием многих известнейших развлекательных программ, и кое-кто из них конвертировал эту роль в успешную карьеру на постсоветском российском телевидении.
В то же время советское телевидение отличалось сравнительно ограниченным использованием бытового антуража и домашних серийных форматов. Этим оно выделялось не только среди своих капиталистических аналогов, но и внутри соцблока, где в 1970‐х годах были широко распространены семейные сериалы о частной жизни50. Советские телевизионщики зачастую и сами были недовольны таким положением дел, поскольку хорошо знали о влиянии и популярности «домашних» сериалов в других странах. Хотя место потребления телевидения – прямо у себя дома – и его якобы патологически-коммерческая роль на капиталистическом Западе (по мнению советских интеллектуалов) снижали культурный статус телевидения по сравнению, например, с кино и театром, амбициозные работники Центрального телевидения все же держались того мнения, что в их руках телевидение – это статусная, мужская, экспериментальная и новаторская форма культуры, имеющая отношение к самым насущным политическим и экономическим проблемам государства.
Эти претензии подкреплялись необычайной важностью ежегодного праздничного календаря для каждого аспекта программирования и производства на Центральном телевидении. Из-за праздников, нарушавших обычное расписание на несколько недель до и после, возникали регулярные периоды повышенного внимания к телепрограммам, во время которых на первый план выходило сильно политизированное взаимодействие между телевидением и аудиторией. В более широком смысле, подобно визионерам короткого «золотого века» американского телевидения конца 1940‐х – начала 1950‐х годов, многие сотрудники советского телевидения сохраняли приверженность праздничному пониманию самого этого медиума. Вместо того чтобы подкреплять и утверждать привычную домашнюю рутину, телевидение должно было, напротив, нарушать и менять ее, вводя в жизнь своих зрителей новые ритуалы. Примечательно, что даже после перехода в середине 1960‐х годов на расписание с повторяющимися программами в предсказуемое время и – спустя несколько лет – отказа от прямого эфира амбициозные производители оригинального телевизионного контента все еще мыслили свою работу в терминах праздника и ритуала.
Эти амбиции, наряду с особой связью, которую работники Центрального телевидения проводили между собой и театральными и художественными экспериментами революционного авангарда, привели к неожиданной иерархии жанров51. Высоким статусом, как и на Западе, обладали зарубежные новости, но и игровые шоу (жанр, по престижу находящийся в самом низу иерархии в капиталистическом мире) тоже были весьма важны. По мере усиления контроля над новостными программами после 1968–1970 годов такие развлекательные жанры, как праздничная музыкально-эстрадная программа, обрели в глазах сотрудников Центрального телевидения большое значение, поскольку содержали в себе как популярное развлечение, так и больше возможностей для политизированной игры (голосование зрителей и т. п.)52. Во всех жанрах – от телеигр до новостей и многосерийных фильмов – советские телевизионщики видели свою задачу как в угождении зрителям, так и в достижении насущных общественных целей, таких как мобилизация рабочих, сплочение семей, создание новых образцовых коллективов посредством игры. Этот набор функций, приписываемых всем советским телепрограммам независимо от того, насколько тривиальными или шаблонными казались они по своей тематике, поместил вроде бы низкие жанры в самый центр миссии Центрального телевидения.
Конечно, глядя на утомительные многочасовые телефильмы и передачи о рабоче-крестьянских героях, созданные в тот период, можно решить, что на Центральном телевидении не было ничего интересного и уж тем более экспериментального. Да, было засилье формализованного языка, особенно во внутренних новостях и документальных фильмах. Но что если мы посмотрим не только на язык, но и на огромное количество визуальных, пространственных и временны´х решений в каждой отдельной телепередаче? Как и советский юмор того периода, часто основанный на контрасте между словами артиста и его физической игрой, визуальный контент Центрального телевидения содержит в себе множество деталей и решений, показывающих, сколь широко советское телевидение экспериментировало с новыми способами объединения аудитории и репрезентации советских людей53. Как и во многих других областях жизни в СССР, где культурные инновации одновременно поощрялись и подавлялись, более творческие передачи Центрального телевидения создавались в условиях постоянного вмешательства цензоров54. Однако у советской цензуры были особые интересы: наибольшее внимание уделялось тому, кто мог появляться в эфире, как эти люди выглядели, во что были одеты, а особенно – что говорили (или пели). Большое значение отводилось и тому, чтобы в эфире не упоминалась информация, подпадавшая под категорию государственной тайны, определявшуюся очень широко. Эти особые заботы и пристальное внимание к предварительному утверждению написанных сценариев тем не менее открывали путь для многочисленных экспериментов с формальными, пространственными и визуальными аспектами контента Центрального телевидения. Что же до тех передач, которые были и вербально, и визуально шаблонными, то сама их скучность, неспособность увлекать, развлекать или влиять стала источником многих тревожных – и показательных – дебатов о причинах и последствиях отчуждения аудитории.
Вот почему интересным и достойным исследования можно считать все советское телевидение. Однако эта книга по необходимости избирательна и неполна. Я сосредоточиваюсь лишь на нескольких передачах и жанрах, созданных московским Центральным телевидением (или для него), многие из которых выходили в эфир нечасто – раз в месяц или только по праздникам. Эти передачи были популярны и хорошо запомнились как зрителям, так и сотрудникам телевидения именно в силу своей необычности: они сами по себе были праздничными событиями. Значение соответствующих жанров как для зрителей, так и для сотрудников и руководства Центрального телевидения четко отражено в государственных и партийных архивах Центрального телевидения: эти передачи были предметом широких дискуссий как в самих редакциях, так и в прессе и в профессиональных изданиях, посвященных журналистике и вещанию. Множество откликов они получали и от зрителей – в письмах и в опросах, по результатам которых признавались самыми популярными программами на Центральном телевидении. Дискуссии, вызванные этими программами, тем более подтверждают их ключевое значение как для проблем, так и для возможностей, которые телевидение создавало для советского государства и его граждан.
Далее, я рассматриваю в основном передачи, транслировавшиеся на первом, всесоюзном канале Центрального телевидения, и – за редкими исключениями – обхожу стороной очень важные и разнообразные программы национальных, региональных и местных телевизионных станций Советского Союза, а также других – региональных – каналов Центрального телевидения55. Во многом опыт просмотра советского телевидения определялся местом жительства. Как шутил тележурналист Владислав Листьев, самыми передовыми существами в Советском Союзе были тюлени в Анадыре, видевшие первую трансляцию Первого канала на Дальний Восток – прежде, чем просыпалась цензура и «резала» московскую трансляцию56. Хотя в этой книге обсуждаются передачи, которые видело и помнит большинство советских телезрителей, я не могу восстановить конкретные языковые, региональные, национальные и международные контексты, в которых эти передачи являлись разным семьям в самых разных уголках огромного Советского Союза. Я рассматриваю рецепцию прежде всего с точки зрения продюсеров Центрального телевидения, используя источники информации об аудитории, к которым у них был доступ: письма зрителей и социологические опросы. Меняющиеся способы, которыми сотрудники Центрального телевидения представляли себе зрителей, узнавали их мнения и реагировали на них, достаточно важны, чтобы оправдать эти ограничения; в значительной мере эта книга посвящена элитам, приближенным к центру советской власти, и чрезвычайно влиятельным телепрограммам, которые они производили для огромной аудитории57. Они всегда имели в виду свою аудиторию – от зрителей, живущих в далеких уголках, чью реакцию они пытались вообразить себе сами или неточно измеряли при помощи писем и опросов, до более близкой и влиятельной аудитории на Центральном телевидении, в прессе и в ЦК. Я фокусируюсь на политическом центре, поскольку в Советском Союзе телеигры, новости, многосерийные фильмы и эстрадно-музыкальные программы, наряду со многими другими развлекательными и серьезными жанрами, в значительной мере были вопросами высокой политики. Но это не значит, что рецепция не имеет значения: напротив, вопрос рецепции был неотделим от контента Центрального телевидения и в этой книге является центральным.


