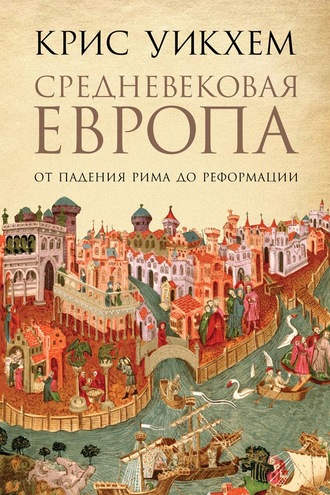
Крис Уикхем
Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации
Таким образом, худшие времена для империи остались позади. Поразительно и примечательно, что она выстояла под всеми этими ударами, когда Западная Римская империя двумя столетиями раньше не вынесла гораздо более слабой, по военным меркам, угрозы. Дело не в крепкой руке; военное и политическое руководство было очень неуверенным и шатким и в 640-х, и в 660-х годах, и в десятилетие после смерти Константина IV. Отчасти это объяснялось тем, что организационная инфраструктура империи, сложившаяся в тучные годы начала VI века, оказалась достаточно прочной и в то же время способной на стремительную адаптацию (чиновничий аппарат VIII века, уже полностью грекоязычный не в пример Юстиниановым временам, структурно очень сильно отличался от аппарата VI столетия). Земельная аристократия, порядком обедневшая, утратила статус, растворившись в государственной иерархии, и до IX века знатные семейства фактически перестали упоминаться в источниках[77]. Однако основная причина заключалась в том, что скорость и размах катастрофы просто не дали ей отразиться на местном укладе, как это часто бывало на Западе. Не было относительно мирных периодов, за время которых местные военачальники или население провинций с византийской стороны границы могли привыкнуть к арабским соседям, как западные римляне привыкали к германским племенам. Все знали, что альтернативой радикальным мерам будет поражение. Однако важно также, что среди этих радикальных мер не было отказа от земельного налога и, как следствие, окончательного оседания армии на земле. Налоговая система Римской империи уцелела, хоть и в упрощенной форме. При этом в некоторых частях империи – в Константинополе и ближайших окрестностях, а также на Сицилии – она функционировала почти так же, как прежде, на основе монетной системы. Этого оказалось достаточно, чтобы найти опору и возродиться, когда положение дел в империи улучшилось.
К 700 году Византийская империя сильно отличалась от империи образца 600 года. Центр тяжести к этому времени сместился на запад, политическое «сердце» теперь находилось на Эгейском море, к которому имел выход Константинополь. Последний хоть и сократился в размерах (остальное государство его больше не кормило), по-прежнему был крупным и экономически активным городом. В кризисные годы северный рубеж обороны истощился полностью и Балканский полуостров постоянно осаждали склавинские племена, часть из которых добралась до нынешней южной Греции. Подлинное владычество Византии ограничивалось восточной кромкой греческого побережья и несколькими отдельными городами на западной стороне и на Адриатике, защищенными с моря. В 680–681 годах сеть мелких склавинских поселений и византийских анклавов на Балканах была разорвана появлением новых тюркских кочевников – булгар, которые после 626 года взбунтовались против аваров. Византийцы (после поражения) готовы были принять их в лоно империи, чтобы перестало лихорадить хотя бы часть Балкан, и кочевники, осев в северной части нынешней Болгарии, в конце концов вывели ее из-под номинального византийского господства. Экономика Греции и Западной Анатолии значительно упростилась, большинство городов – за исключением крепостей – были заброшены, однако не все, и какой-то уровень товарообмена на побережье Эгейского моря сохранялся[78].
В результате главенствующее положение обретали западные области империи – ось Равенна – Рим – Неаполь, а также Сицилия и север Африки. Все они, за исключением Северной Африки, были меньше подвержены арабской угрозе. И действительно, к 700 году Сицилия стала богатейшей из провинций империи. (Африка в 690-х полностью отошла завоевателям.) Товарообмен на берегах Италии не уступал эгейскому – хоть и менее сложный и разнообразный, чем при Юстиниане, он по-прежнему был активным[79]. Поэтому не так уж удивительно, что Констант II (641–668) решил под конец своего царствования перенести столицу в Сиракузы, главный город Сицилии, хотя другим крупным политическим игрокам это показалось слишком радикальным и вскоре император был убит. Рим тоже долгое время сохранял связи с Востоком. Папа, еще не ставший официальным правителем города, но уже обладавший большой властью, по-прежнему был главой имперской Церкви, и с его взглядами приходилось считаться в религиозных диспутах. Кроме того, он владел обширными землями в южной Италии и на Сицилии, поэтому не испытывал недостатка в ресурсах. Авторитет папы у императоров этого периода действительно вырос. Если Григорий Великий, на современный взгляд самый выдающийся папа раннего Средневековья, крупный богослов и активный политический деятель, не был влиятельной фигурой в Константинополе при Маврикии, то Мартин I много значил для Константа II (к несчастью для него). Голос Рима был учтен и когда Константин IV отказывался от монофелитства, и с тех пор папы более полувека были преимущественно грекоязычными – притом что в городе было много южноитальянских и восточных священников[80]. Таким образом, Византийская империя теперь была ориентирована по оси Константинополь – Сицилия, а не Константинополь – Египет, как в VI веке. Соответственно владычество над Северным морским путем через Средиземноморье византийцы обороняли от посягательств арабов как можно тщательнее[81].
Так пережили кризис середины VII века римляне. У арабов, как у победившей стороны, картина была, разумеется, совершенно иной. Поскольку книга посвящена Европе, у нас нет возможности подробно анализировать новый мир, построенный арабами, однако сравнить его с римским необходимо, чтобы получить представление об историческом контексте. Как бы то ни было, в следующей половине тысячелетия арабские халифаты стали богатейшими и сильнейшими политическими образованиями в Средиземноморье, которые оказывали значительное влияние на европейскую сторону региона, поэтому внимания они, несомненно, заслуживают. Начнем с успеха арабов: залогом его стало объединение Мухаммедом (ум. в 632 году) и его последователями многочисленных аравийских племен под эгидой ислама. Каким был ислам на заре своего существования, мы никогда не узнаем, хотя крепнет уверенность, что Коран, его основное священное писание, примерно к 650 году был уже близок к своей окончательной форме, как всегда и утверждала мусульманская традиция. Это, разумеется, не означает, что учение исповедовали или хотя бы знали повсеместно. Как и у христиан, представление о своей религии у ранних мусульман сильно варьировалось[82]. Однако самое главное, что воины в арабских войсках считали себя единоверцами, и этого было достаточно хотя бы для того, чтобы одержать первые победы, которые в качестве сплачивающего фактора добавляли к общей вере общие интересы. Успех, конечно, объяснялся не только религиозностью: с дурными военачальниками и слабой дисциплиной сражения не выигрывают, тем более что численность арабских войск поначалу была невелика[83]. Их полководцы определенно знали свое дело. Как и в германских племенах двумя столетиями ранее, многие арабы, скорее всего, получили военный опыт в римских и персидских войсках (пусть даже основное состоявшее на службе у римлян племя Гассанидов сражалось на стороне Ираклия). Кроме того, недавняя римско-персидская война, истощившая и разорившая армии обоих противников, тоже не способствовала устойчивости ни той ни другой империи. Однако на этом поиски причин придется завершить: наши источники, при всей своей многочисленности с арабской стороны, в основном относятся к более поздним временам и большего нам не расскажут.
Гораздо лучше документировано то, как арабы распорядились своими успехами. Преемники Мухаммеда, халифы (араб. «халифа» означает «заместитель» – имеется в виду Господа) правили богатейшими землями к западу от Индии и Китая и обладали несметным ресурсным потенциалом, который, насколько мы можем судить, не пропал даром. Начиная с 640-х годов халифы, видимо, предпочли не сажать войска на землю (как это происходило ранее в германских племенах), а расквартировывать в городах и платить жалованье за счет налогов, которые уже существовали и в Римской империи, и в Персии и которые еще долго будет собирать и распределять сложившаяся римская и персидская элита. Практика финансирования армии, правящего класса и государства за счет разветвленной системы налогов в арабском мире не сдавала позиций[84]. Она обеспечила арабам существенное изначальное преимущество, отделив их от значительно более многочисленного местного неарабского и немусульманского населения, которому в результате так и не удалось арабов поглотить. В конечном итоге верх одержали арабский язык и мусульманская религия – на всей территории Халифата, за исключением Ирана. (В этом тоже состояло отличие от большинства германских племен на Западе: в Галлии, Испании и Италии будущее осталось за языками на основе латыни, а не германскими.) Примерно до X века ислам был религией меньшинства на всех захваченных землях, за исключением, возможно, Ирака. И тем не менее, по крайней мере с конца VIII века, новая культура арабо-мусульманской элиты медленно, но верно завоевывала господство в главных центрах мусульманского мира. В ней сохранялись отголоски литературы и философии более раннего периода (прежде всего, классической греческой философии и науки), однако основу ее к этому времени составляли иные образцы летописания, богословия, поэзии, географии, наставлений, беллетристики, почти ничего общего не имевшие с прежними традициями. Созданный в этих жанрах в IX и X веках огромный массив текстов (гораздо более обширный, чем где бы то ни было в Европе в любой период Средневековья) до сих пор составляет костяк исламской культуры[85]. В XII–XIII веках некоторые из достижений арабской культуры, особенно в области медицины и философии, стараниями переводчиков на латынь добрались и до Западной Европы.
Таким образом, благодаря действенной налоговой и административной системе Халифат сохранял политическую функциональность и – в течение долгого времени – баснословное богатство. Эта система гораздо медленнее отделялась от своих римских (и персидских) корней, чем фискальные структуры не только западноевропейских королевств, но и Византии. На территории бывшей Римской империи оказавшиеся под властью арабов Египет и Левант также подверглись наименьшим по сравнению с другими землями экономическим изменениям – при археологических раскопках вычленить период арабских завоеваний и вправду нелегко, и благополучие VI века, утраченное византийскими провинциями, здесь довольно долго сохранялось неизменным[86]. Новые исламские города, такие как Фустат (сейчас часть Каира), а после 762 года Багдад, могли разрастаться до огромных размеров. Когда в XI–XIII веках оживились торговые отношения в Средиземноморье, Египет как центр производства и торговли стал еще более влиятелен, чем во времена Рима. Иными словами, в Халифате далеко идущие культурно-религиозные перемены компенсировались и окупались меньшей изменчивостью экономического и политического устройства, что представляло собой почти полную противоположность происходившему в Европе, как Восточной, так и Западной.
Впрочем, политическая жизнь Халифата не отличалась такой стабильностью, как государственные структуры. Непосредственные преемники Мухаммеда сохраняли право централизованно определять военную стратегию и распоряжаться ресурсами, что было эффективно, но вызывало недовольство войск, избалованных победами и достатком. Убийство халифа Усмана повстанцами в 656 году привело к междоусобице, приостановившей арабскую экспансию. В 661 году кузен Усмана Муавия из династии Омейядов, дальний родственник Мухаммеда, одержал в этой войне верх и стал халифом (661–680). Омейяды, назначившие своей столицей сирийский Дамаск, правили почти столетие. Но, когда после смерти Муавии стало понятно, что он и его преемники рассчитывали на династическое правление, вспыхнули мятежи и началась вторая гражданская война, в которой Омейяды терпели поражение, пока в 692 году Абдул-Малик (685–705) не занял священную Мекку. Он придал Халифату гораздо большую внешнюю религиозность; Абдул-Малик, как и его сын Аль-Валид I (705–715) вслед за ним, строил монументальные мечети и повелел чеканить на монетах цитаты из Корана вместо своего портрета. Омеяйды властвовали над Сирией и Палестиной, и египетские войска до самого конца хранили им верность, однако в Ираке, а иногда и в Иране династия встречала сопротивление. Начавшееся в 747 году в Иране восстание под религиозными лозунгами поддержали и в других областях; в 750 году Омейяды пали и были почти уничтожены как род, а к власти в Халифате пришла новая династия – Аббасиды, потомки дяди Мухаммеда, считавшиеся более законными правителями с точки зрения мусульманской религии. (Полагали, что в результате восстания власть получат Алиды, потомки самого пророка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы, однако этого не случилось, и с тех пор Алиды, хоть и окруженные почетом, считали себя ущемленными.) Аббасиды носили халифский титул еще не один век, пока в 1517 году его не отобрали османские султаны, хотя реальная власть Аббасидов продлилась всего два столетия, до 940-х годов. Оплот их находился в Ираке, а не в Сирии, которая до XII века не могла вернуть себе статус крупного политического центра. Второй халиф Аббасидов, аль-Мансур (754–775), основал Багдад, а его преемники способствовали расцвету арабской литературы в течение последующих столетий[87].
Дальнейшая история халифов – равно как и многочисленных династий, пришедших на смену свергнутым Аббасидам, – останется за рамками этой книги. Но важно подчеркнуть, что к 940-м годам подвластная халифам территория распалась на множество отдельных государств в Египте, Ираке, Иране и так далее, которые воедино больше никто не собирал. Только Османам в XVI веке удалось объединить мусульманские земли в Средиземноморье и Ирак, но Иран они подчинить не смогли. До этого самым могущественным из государств-преемников Аббасидского халифата на Средиземноморье был независимый халифат Фатимидов (969–1171) с центром в Египте, но распространявший свою власть и на Сирию, и, по крайней мере номинально, на Тунис и Сицилию. Фатимиды, что нехарактерно, были по происхождению Алидами – по крайней мере, считали себя таковыми, – и в своем правлении эта преуспевающая династия опиралась на шиизм, а не на суннизм, преобладающее направление ислама в Средние века[88].
Внутренние междоусобные войны притормозили экспансию Халифата, однако после их завершения посягательства арабов на соседей возобновились с новой силой, свидетельствуя о возрождении единства и целеустремленности. В результате Халифат постепенно прирастал землями Северной Африки и Центральной Азии. К концу VII века ему покорились берберские королевства на алжирском и марокканском берегу, а также византийская Северная Африка. Оттуда в 711 году берберско-арабская армия вторглась в вестготскую Испанию и к 718 году завоевала ее почти целиком. Но дальше в глубь Европы арабы не продвинулись (хотя около века спустя им удалось присоединить Сицилию) – совершавшиеся затем набеги на Галлию не носили экспансионистского характера. К тому времени Халифат разросся максимально, простираясь от Атлантики до границы с Китаем. Поддерживать по-настоящему долгосрочное единство было невозможно и теоретически, и, как показал постаббасидский период, практически – хотя удерживать под своей властью территорию от Египта до Самарканда в течение 300 лет было само по себе логистическим и организационным достижением. Если халифы и желали что-то завоевать после 700 года, то Константинополь, однако тут они потерпели неудачу в те же годы, когда одержали победу в Испании – в 717–718-м. Испанию, впрочем, они присоединили попутно; в 740 году она, как и большая часть Северной Африки, была охвачена мятежами, поэтому после 755–756 годов с готовностью приняла последнего уцелевшего представителя династии Омейядов, Абд ар-Рахмана I (756–788), в качестве независимого эмира[89]. Однако эмират Аль-Андалус был единственной частью Европы, напрямую преобразованной арабскими завоеваниями, и в конце этой главы мы к нему еще вернемся.
На арабские завоевания, как и на падение Западной Римской империи, западная историческая школа смотрит в большинстве своем через призму морализаторства, рассуждая о крахе цивилизации и имперских амбиций, а также о триумфе варварства. И в том и в другом случае это лишено смысла, но, учитывая высокое развитие Халифата, применительно к нему это бессмысленно вдвойне. Смотрели на них и через ориенталистскую призму: в этот период Восточное и Южное Средиземноморье перестало быть частью той же цивилизации, что и северное побережье, и стало чужеземьем, где под палящим солнцем плелись непостижимые интриги и раз за разом происходила жестокая – при этом, по сути, нецелесообразная – смена власти. Это тоже ошибочный подход, но более коварный, потому что тут есть доля истины: арабоязычная культура была действительно непроницаема для латино- и грекоязычной Европы, за исключением одной-двух точек соприкосновения – Аль-Андалуса, затем Сицилии, а позже – великих итальянских торговых городов, которым необходимо было налаживать взаимодействие с богатыми областями Средиземноморья. Кроме того, христианским государствам слишком легко было увидеть в мусульманах экзистенциальную угрозу – и иногда именно этим они руководствовались в своих действиях, самым драматичным примером чего служат крестовые походы. И конечно, христианским государствам гораздо сложнее оказывалось учиться у мусульманских, даже если научиться можно было многому. Учитывать эти подходы мы должны, но брать их на вооружение не будем.
Тем не менее одно из таких представлений нуждается в дополнительном пояснении: неужели Европу как таковую действительно создали арабы, расколов единство римского и постримского Средиземноморья и отделив европейское побережье от азиатского и африканского (с некоторой размытостью на окраинах, самыми очевидными примерами которой в тот период были Аль-Андалус и византийские земли в Анатолии)? Именно так полагал великий бельгийский специалист по экономической истории Анри Пиренн в начале XX века. С его точки зрения, Средиземноморье представляло собой единое экономическое целое – до арабских завоеваний, которые разрушили торговые связи Римской империи, после чего европейский товарообмен сместился к северу, своему естественному средоточию, которым Пиренн считал Бельгию[90]. Здесь имеется фактическая неувязка: Западное Средиземноморье к VII веку уже успело утратить экономическое единство, а к X веку торговцы из исламских государств, наоборот, воссоздавали средиземноморскую торговую сеть от Аль-Андалуса до Египта и Сирии, к которой Византия и итальянские города впоследствии попросту подключились[91]. Однако нельзя отрицать, что с тех пор южный рубеж христианского мира проходил по Средиземному морю, а не по Сахаре, как в 500 году. И все же в этой соблазнительной теории имеется прокол – постоянное упоминание Европы, понятия, ничего не значащего сейчас и совершенно беспомощного в Средние века, как мы знаем из главы 1. Более того, огромные политические и культурные различия между севером и югом Европы были и остаются до сих пор даже острее, чем различия между тремя крупнейшими западноевразийскими политическими игроками – Франкским государством, Византией и Халифатом. Такое положение сохранялось до позднейшего Средневековья, когда на окраинах началась еще большая неразбериха – османы к тому времени подобрались к границе Венгрии, а русские князья готовились покорять Сибирь. Я же, пожалуй, не буду пускаться в поверхностные и обычно исполненные самодовольства размышления о мировой истории и скажу просто: в результате арабских завоеваний в Западной Евразии появился третий крупный игрок, более могущественный, чем главенствовавшая прежде (Восточная) Римская империя, и такой, с которым впоследствии пришлось взаимодействовать всем. От этого уже вполне можно отталкиваться.
После великой осады Константинополя в 717–718 годах византийцам уже не нужно было действовать в кризисном режиме, и они довольно скоро это поняли. Император Лев III (717–741), вышедший победителем из мясорубки военных переворотов предыдущего десятилетия, на фундаменте этой победы возвел прочную структуру верховной власти, которую унаследовал и развил его сын Константин V (741–775). Лев III издавал законы, Константин перестроил главный акведук, подававший воду в Константинополь, – жизненно важное для водоснабжения предприятие. Кроме того, он реформировал армию, создав специализированные ударные отряды, и, впервые за столетие перейдя в наступление, раз за разом шел войной на булгар и склавинов, вернул господство над нынешней Грецией и землями к северу от нее и даже напал на арабов. Западная часть империи Константина интересовала гораздо меньше, поэтому он не особенно заботился о том, чтобы предотвратить потерю Равенны и других земель в центральной Италии – включая Рим, где папы в его правление благополучно отстаивали независимость. Однако на востоке последствия его военных побед будут ощущаться еще долго. Совместными усилиями Лев III и Константин V заложили основы сильной Византийской империи середины Средних веков, ориентированной на Эгейский регион. По сравнению с прежними временами она сократилась в размерах, однако была едина в военном и фискальном отношении и, уступая площадью другому крупному европейскому государству, Франкскому, превосходила его сплоченностью внутренней организации вокруг сохранившей размах и вновь разраставшейся столицы и определенно имела более долгую историю. Позже император Никифор I реформировал и налоговую систему, и начиная с его правления становится больше свидетельств возврата монетного обращения, а затем – расширения экономического обмена и ремесленного производства[92].
Здесь мы впервые с VI века наблюдаем политическую уверенность в своих силах. Не всегда она была полностью оправданной, по крайней мере к тому моменту. При хане Круме (ок. 800–814) болгары собрались с силами и нанесли поражение Никифору I. Сам император погиб в битве. А в 828 году, спустя два переворота и одну междоусобную войну, стратегически важный остров Крит заняли арабские войска. К 902 году увенчалась успехом затянувшаяся на 75 лет попытка арабов отвоевать Сицилию, и та вышла из-под византийского владычества окончательно. Но при Феофиле (829–842), который, как и Константин V, активно отстраивал Константинополь, империя сохранила единство, а затем натиск арабов ослаб. Империя оказалась в выгодном положении и смогла воспользоваться и первым крупным кризисом Аббасидов в 860-х годах, и более длительным, начавшимся в X веке, как мы еще убедимся в главе 9[93].
В таком историческом контексте (достаточно благоприятном, если не считать 810–820-х годов) развивался один из самых интересных христианских конфликтов Средневековья – спор о религиозных изображениях. Начиная с 680-х годов наряду с отсылками к давнему культу реликвий возникают упоминания о поклонении образам – они тоже существовали издавна, однако с означенного времени многие стали воспринимать их по-новому, как окно в бытие изображенного святого (или Иисуса). Веру эту поддерживали не все, многие считали, что нельзя поклоняться рукотворному изображению на деревянной доске, однако почитание образов распространилось достаточно широко, чтобы некоторые его элементы были канонизированы Трулльским собором в 691–692 годах. Возникло оно – именно в Византии, не на Западе, – скорее всего, потому что в конце VII века византийцы пытались примириться с поражением и соприкасаться с божественным как можно теснее многим казалось утешительным. Однако это стремление сразу же смешалось с потребностью клира контролировать детали религиозных обрядов, которые, по сути, в основном и обсуждались на Трулльском соборе. На смену опасности ошибиться насчет природы Христа пришла опасность нарушить чистоту обряда – и для многих поклонение образам не просто подлежало контролю, но само по себе выступало прегрешением. Споры о том, грешно или не грешно молиться иконам, были связаны и с кросс-культурной щекотливостью вопроса об изображениях в целом, поскольку именно в этот период халифы начали порицать изображение человеческого лика как такового, по крайней мере в общественном и религиозном контексте. Усматривать здесь мусульманское влияние на византийское христианство (или наоборот) оснований нет, однако вопрос, считать человеческие изображения благом или злом, святыней или грехом, звучал повсюду, у представителей разных стран и религий[94].
Вопросы такого рода объясняют начавшееся в VIII веке иконоборчество, упоминания о котором впервые появляются в 720–730-х годах в связи с действиями двух анатолийских епископов. Около 750 года ту же политику начал проводить сам Константин V, написав два иконоборческих трактата под названием «Изыскания», а в 754 году он созвал Иерийский собор, осудивший почитание икон. Несколько изображений в церквях были уничтожены и заменены распятиями, которые Константин считал вполне приемлемыми – в силу символичности – предметами для поклонения. (Насколько мы сегодня можем судить, основная масса икон уничтожению все же не подверглась.) Важнее, что на смену непосредственному, неконтролируемому соприкосновению со священным, которое обеспечивали иконы, приходило посредничество церковников и церковных обрядов, предполагающих причащение. В этом и состояло «иконоборчество» Константина (уточню, что термин современный, в Византии его не знали). Насколько ему сопротивлялись, сложно сказать. Противники у Константина, несомненно, имелись, хотя достоверно нам известно лишь о римских папах. Армия же, напротив, его поддерживала, равно как, скорее всего, и столица, и – когда до них докатилась молва – богословы Франкского государства, где в силу того, что поклонение образам и без того было не в ходу, действия Константина воспринимались как естественные. Достоверно известно другое: после смерти Константина, а затем его сына Льва IV вдова последнего Ирина, правившая как регент при своем сыне Константине VI (780–797), повела иную политику и на Втором Никейском соборе в 787 году восстановила иконопочитание, осудив Константина V и его религиозные взгляды[95]. Ирина была женщиной жестокой – впоследствии, ослепив и свергнув сына, она стала единственной в средневековой европейской истории правительницей, захватившей власть силой, и царствовала самодержавно, пока сама не была свергнута в ходе переворота 802 года Никифором I. Второй Никейский собор был нужен, возможно, лишь для того, чтобы назначить на высокие должности сторонников самой Ирины, а не ее свекра Константина, а также чтобы вновь привести византийские религиозные обряды в соответствие с римскими. Успех Ирины свидетельствовал и о том, что в Византии правительница обладала подлинной властью. Она встала в один ряд с такими крупными политическими деятельницами, как Феодора, влиятельные София (вдова Юстина II) в VI веке и Мартина (вдова Ираклия) в VII столетии, правящие императрицы Зоя и Феодора в 1040–1050-х годах, несмотря на то что ее свержение говорит и о непрочности женской власти[96]. Но иконоборчество переворот 802 года не вернул, тем самым, возможно, доказывая, что религиозные взгляды Константина V уже не встречали того отклика и поддержки, которые прослеживаются в более ранних исторических источниках.
Однако на этом иконоборчество не прекратилось. Гибель Никифора I в сражении взбудоражила империю и всколыхнула – особенно в войсках – память о победах Константина V. В 815 году новый император Лев V вновь обратился к иконоборчеству в надежде вернуть тем самым и военный успех. Однако вторая волна иконоборчества, как ее часто называют, судя по всему, была, скорее, культом власти и армии, который со всей истовостью насаждался лишь Феофилом в 830-х и военных успехов все равно не обеспечил. Не прошло и года после смерти Льва, как регенты, правившие от имени его малолетнего сына Михаила III, от этой политики отказались, а в 843 году возродилось формализованное поклонение образам, гораздо более основательное, поскольку к тому времени у него имелось подробное богословское обоснование, отсутствовавшее в середине VIII века. Почитание священных образов – икон – с тех пор стало ключевой составляющей православного христианства и отличало византийскую религиозную культуру до последних дней империи. Не исключено, что именно этим объяснялась независимость мышления некоторых византийских богословов: в какой-то степени они начинали все заново. Византийское государство классического Средневековья было детищем Константина V, дело которого продолжили Никифор I и Феофил, но православная религия сформировалась в противостоянии всем троим (даже Никифору, который, хоть и не был иконоборцем, сверг Ирину, героиню Никейского собора). В будущем мирянам Византии предстояло искать новых героев.
В завершение этой главы обратимся к Аль-Андалусу. Не будучи в буквальном смысле «восточным» государством, поскольку географически (как и Ирландия) он представлял собой самую западную окраину Европы, Аль-Андалус испытывал сильнейшее влияние политического уклада, формировавшегося в Египте и Ираке. В Аль-Андалус входила не вся Испания, арабам не удалось завладеть гористой северной кромкой полуострова, где в VIII–IX веках сохранялись разрозненные христианские королевства, в X веке ставшие несколько более сплоченными[97]. Кроме того, своим оплотом арабы сделали юг со столицей в римской Кордове, а не центральное плоскогорье вокруг прежней столицы, Толедо. Толедо и другие крупные северные города вроде Сарагосы считались, скорее, крупными пограничными областями, которые, разумеется, тоже требовалось контролировать, но о полноте централизованной власти речь не шла. Эмират Омейядов формировался непросто, Испания после завоевания была очень раздробленной, и отношения разных частей полуострова с верховной властью складывались неодинаково. Кроме того, там, в отличие от большинства других завоеванных арабами территорий, отсутствовала устоявшаяся система налогообложения, и, хотя арабские правители стремились наладить ее как можно скорее, добиться той эффективности, которая на Ближнем Востоке до X века воспринималась как должное, им не удавалось. Это, впрочем, не мешало Кордове как столице стремительно расти. На пике своего расцвета в X веке она, пусть ненадолго, оказалась крупнейшим городом Европы. Абд ар-Рахман I в 756 году стал основателем династии Омейядов, которая правила без перерывов до 1031 года, почти не встречая препятствий при передаче власти по наследству. Тем самым закладывались надежные предпосылки для стабильного роста государства под властью эмиров, которое, несмотря на независимость Аль-Андалуса, развивалось в основном благодаря заимствованиям правительственных механизмов у Аббасидов. Параллельно шла исламизация правящего класса, а затем, уже медленнее, испанского населения в целом, которая к IX веку была заметна в Кордове, а к началу X века, вероятно, достигла решительного перелома на всей остальной территории эмирата[98].


