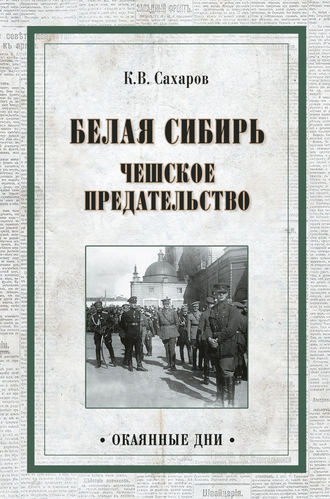
Константин Сахаров
Белая Сибирь. Чешское предательство (сборник)
© ООО «Издательство «Вече», 2018
* * *
Белая Сибирь
«Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.
Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных. Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, которым и своя шейка – копейка, и чужая головушка – полушка».
1833–1836 гг.А. С. Пушкин. Капитанская дочка
Предисловие
Пользуясь первым выпавшим мне свободным временем, я намерен записать, хоть коротко, последовательный ход событий в восточной части России за 1818, 1919 и 1920 годы. Как один из участников и очевидцев этих событий, я не вправе, понятно, произнести какой-либо приговор, не собираюсь также изрекать истин, делать окончательных выводов. Истина лежит вне усилий единоличных, приговор скажет беспощадная и справедливая история, а правильные выводы сделает сама жизнь.
Моя цель – исполнить только мой долг, – записать для моих соотечественников, совершенно правдиво и беспристрастно, те условия, в которых проходила борьба антибольшевиков, те побуждающие причины, что двигали и управляли этой борьбой, раскрыть состояние и настроение народных масс, показать приемы борьбы и те обстоятельства, которые повлияли на ее неуспех.
Глубокая вера живет в нас всех, что Родина – Великая Россия не может исчезнуть, что она возродится, несмотря на все противодействия, от кого бы они не исходили. Народ, сумевший в течение своей тысячелетней истории образовать величайшую в мире Империю, давший человечеству дары блестящего гения, вынесший из своей массы плеяды мировых писателей, ученых, художников и композиторов; страна, спасавшая не раз Европу и общечеловеческую культуру, воспитавшая в себе дух самопожертвования, поставившая искание правды и нравственной справедливости превыше материальных благ; народ, всегда искавший Бога: такие страна и народ не могут погибнуть или ассимилироваться с другой культурой, чуждой Русским историческим путям и задачам.
Возрождение России будет скорее, чем многие предполагают; оно придет изнутри, из масс самого народа. Наша общая вера в нашу Родину и ее судьбы оправдается; наша общая работа и великие жертвы Русского народа не пройдут безрезультатно.
Восстановление своего разрушенного дома мы должны делать сами, своими руками; преступно рассчитывать, что кто-то может выполнить это за нас. Нет сомнения, – друзей мы имеем среди других стран, народов и наций. Но не надо ни на минуту забывать, что все эти друзья заняты своими личными делами и заботами, почти никто из них не уясняет да и не может уяснить себе истинного состояния масс и необъятных пространств России и не знает ни исторического хода развития нашего государства, ни лежащего теперь перед ним правильного и исторически-естественного пути. Да кроме того, обычно эти иностранные друзья при своей помощи восстановлению Государства Российского руководятся своими эгоистическими целями. И эти скрытые цели всегда противуположны интересам России, вредны для нее.
Нам самим зачастую трудно понимать и уяснять современное. Ведь от разности этого понимания и затянулась так гражданская братоубийственная война, – от разности понимания или от незнания, незнакомства со многими событиями, настроениями и руководящими целями.
Чтобы успешно действовать, строить, – надо правильно оценить условия и взять верное направление; а чтобы правильно судить, необходимо знать возможно подробнее и полнее о той совокупности внутренних и внешних факторов, которые влияли на жизнь нашей страны. Надо знать правду о России. Чтобы людям правильно выполнить свою задачу завтра, им необходимо быть осведомленными о том, что было сделано сегодня и вчера, и как было сделано.
Цель настоящей книги раскрыть это вчерашнее. Предмет ее – описание событий в Восточной России с осени 1918 года до весны 1920 года.
Все написанное является результатом лично пережитого. Мне пришлось работать в исключительных условиях, находясь почти в самом центре этого огромного русского напряжения, среди больших русских людей и патриотов.
Очень хотел бы этой книгой помочь и иностранцам, расположенным искренно к России, желающим принести ей пользу, и всем друзьям нашей Родины, – разобраться немного в Русском вопросе и получить представление о том, что нужно России и Русскому народу. Для этой цели необходимо показать тот, может быть невольный, но большой вред, какой принесла Русскому народу пресловутая интервенция союзников иностранцев. Представляю факты, встречи и действия в их неприкрашенном виде; пусть это не будет истолковано как результат недружелюбного чувства, как результат каких-либо ориентаций. Нет, но при описании такого сложного процесса борьбы, при беспристрастном рассказе событий нет возможности все хвалить или обходить неприятные стороны молчанием.
А мое стремление – дать полный очерк всего хода событий и беспристрастное описание их. Если невольно, местами иногда проявится мое личное чувство и излишние подробности, прошу снисходительности, так как все пережитое очень еще свежо, и слишком больно затронуло оно каждое русское сердце.
Некоторые собственные имена мною поставлены лишь в инициалах, – из-за опасения повредить людям, которые досягаемы для чрезвычаек III Интернационала. Но все эти фамилии у меня имеются и, когда придет время, они займут в книге свое место. Точно так же я нахожу еще рано давать подробности и освещение некоторых фактов, останавливаться более детально на характеристиках и оценке деятельности отдельных лиц, равно и опубликовывать часть документов, оставляя все это до другого раза.
Глава I. Борьба за власть
После долгих и трудных странствий, частью верхом, частью на телеге, через киргизские песчаные степи, приехали мы с женой из Астрахани в Уральск, дважды перейдя красный фронт. Впервые после почти годового пребывания в советской России и после шестимесячного заключения в большевицкой тюрьме я попал в город, где свободно развевался Русский национальный флаг. Была осень 1918 года. По всей шири Руси от Карпат и до Тихого Океана вспыхнули восстания против большевиков. Самые разнообразные слои, классы и национальности Русского народа поднялись против угнетателей и кровавых тиранов, захвативших власть в стране именем народа и для народа. Национальная Русь восстала против интернационала.
Эти восстания были разрозненны и неорганизованны. Это было чисто стихийное движение. Только на Волге и к востоку от великой русской артерии восстания русских людей нашли помощь и поддержку в Чехословацком корпусе, примкнувшем к ним в своем стремлении пробить путь на восток.
Отрывочные сведения обо всем этом доходили и в большевицкий стан, достигали и Астраханской тюрьмы, где нас сидело свыше ста офицеров; сердца были полны надеждой, казалось, что все мы, русские люди, довольно уже научены пережитой революцией, чтобы не делать снова ошибок, чтобы найти объединение для общей работы по очистке нашего дома – России от большевицкой нечисти.
Уральск кишел наподобие растревоженного муравейника. Все население жило одним общим интересом – разбить красные полчища большевиков, отнять у них Саратов и Астрахань для соединения с Добровольческой армией генерала Деникина. Мобилизация в станицах проходила полностью, и все мужчины шли в ряды сражающихся; не хватало винтовок, шашек и пик, – шли с вилами и косами, составляя особые отряды для поддержания первой линии.
Все политические лозунги были отброшены. Одна мысль управляла этим народным движением: покончить с большевизмом и тогда заняться разрешением вопросов внутреннего устройства. В этом казаки сходились с Самарскими и Саратовскими крестьянами и соединились с ними для борьбы против общего врага.
В Уральске впервые пришлось узнать отголоски правдивого положения на новом белом фронте. Грустными, похоронными аккордами прозвучали известия с Волги:
– «Казань отдали большевикам»…
– «Сколько там погубили людей. Какие огромные запасы оружия и военного имущества оставили красным…»
– «Пал Симбирск…»
– «Самарское правительство не желает поддерживать казаков и Сибирскую армию…»
Помню заседание Уральского казачьего круга и доклад на нем делегатов, вернувшихся из Уфы с так называемого Государственного совещания. Зал наполнен серьезными бородатыми казаками, только отдельными пятнами мелькают пять-шесть молодых безусых лиц; глаза у всех смотрят пытливо и напряженно, так искренно, с таким страстным желанием найти правильный путь, путь объединения в работе-борьбе. И иметь в ней успех. Полная тишина и порядок в отличие от всех шумных и говорливых собраний 1917 года.
Два казака, приехавшие из Уфы, делают доклад. Тихо и медленно говорят они по очереди; каждое слово их звучит в этой тишине так четко, как благовест ночного колокола:
«…Образовали Российскую директорию из пяти лиц: Авксентьев, генерал Алексеев, Чайковский, Астров и Вологодский; так как некоторым прибыть сейчас нельзя, то будут их заместители; сейчас состав такой: председатель директории Авксентьев, члены: генерал Болдырев, Вологодский, Зензинов и Виноградов.
Порешили на совещании, что вся полнота власти сосредоточивается у директории. Все остальные правительства должны подчиниться ей…
Мы подписали за Уральское казачество это обязательство, чтобы Россия могла объединиться в борьбе против большевиков».
Ни слова возражения. В глазах и на лицах спокойная радость удовлетворенных ожиданий и окрепшей надежды.
– «Согласен ли круг и одобряет ли действия избранных делегатов?» – спрашивает председатель.
– «Согласны, согласны», – проносится дружное эхо всего круга…
Из Уральска я отправился автомобилем в Бузулук, чтобы оттуда проехать через Самару в Уфу, в новый главный штаб для получения назначения.
Путь до Бузулука, сам этот городок самарских черноземных степей, дальше тряский вагон до Самары, набитый пассажирами так, что в четырехместном купе нас уплотнилось десять человек, – все дышало какой-то сумятицей, взволнованностью, неуверенностью. Крестьяне бузулуцкого большого села Марьевки, где мы остановились на ночлег из-за поломки автомобиля, жаловались мне на чехов и на новое правительство учредителей за то, что те произвели жестокую экзекуцию этого села.
– «Вишь ты, Ваше Благородье или, как тебя называть, не знаем, – у нас некоторые горлотяпы отказались идти в солдаты, ну к примеру, как большевики они. А мы ничего, мы миром решили идти. Скажем так: полсела, чтобы идти в солдаты, а полсела против того.
Пришли эт-то две роты чехов и всех перепороли без разбору, правого и виноватого. Что ж, это порядо-ок?»
– «Да еще как-то пороли! Смехота! Виновных-то, самых большевиков, – не тронули, а которых, хорошие мужики, перепороли. Вон дядя Филипп сидит, сидеть не может, а у него два сына в солдаты в народную армию ушли».
Крестьяне сочувственно и безобидно засмеялись, а дядя Филипп неловко заерзал на лавке.
– «Что ж, барин, и когда конец будет этому? Кто порядок-то установит?» – обратился ко мне с вопросом старый крестьянин в армяке и лаптях. Все сдвинулись ближе.
Я старался объяснить им, что теперь порядок можно установить только самим нам, всем сообща, покончив с большевиками. Слушали крестьяне молча, а в конце дядя Филипп ответил за всех:
– «Эх, не то, барин, – нам бы какая власть не была, все равно, – только бы справедливая была, да порядок бы установила. Да, чтобы землю за нами оставили. Если бы землю-то нам дали, мы бы все на Царя согласились».
– «Да уж чего тогда бы лучше», – раздались голоса в толпе.
Меня, как жившего в Самарской губернии раньше, до войны, не удивил этот заключительный аккорд, так как тамошние крестьяне всегда отличались большим, почти святым почитанием Царя; все они большие хлеборобы, и редкий делал запашку меньше чем двадцать-двадцать пять десятин. Постоянная мечта их была разжиться землицей, прикупить ее; ну а здесь такая благодать – даром свалилась.
Но меня поразило, что наши дивные черноземные Самарские степи, эта житница России, лежали теперь почти нетронутыми. Десятки верст пробегал автомобиль, далеко, до самого горизонта уходила волнистая плодородная степь, и только редкими местами попадался табор пахарей или плуг в работе среди черного блестящего вспаханного поля. В прежние годы, в сентябре, бывало, вся степь была черным-черна, вся грудь ее распахана для нового весеннего посева.
В селе Марьевке несколько тысяч населения, и, несмотря на будни, почти все оставались дома. На мой вопрос о причинах такой перемены как раз теперь, когда они завладели всей землей, крестьяне ответили так:
– «Видишь, барин, нам это не способно: одно дело, кто землю-то нам продал? Неизвестно. Какие они права имели землю-то отдавать? Ее распашешь, а потом отвечай. А другое дело война, – все равно пропадет. Ты посеешь, потрудишься, а красная гвардия придет, половину стравит (истопчет), а другую половину отнимет…»
В Бузулуке я увидел первый полк новой народной армии. Без погон, со щитком наподобие чешского на правом рукаве, почему-то с георгиевской ленточкой, вместо кокарды, на фуражке. Вид полутоварищеский. Сам городок, обычно шумный, центр одного из наиболее хлебородных уездов России, жил теперь тихой, спрятанной жизнью, точно дом, из которого уехали главные хозяева.
В вагоне пришлось ехать вместе с несколькими офицерами. Два из них сидели, а одному места не хватило, стоял. В углу же разместился какой-то железнодорожник с яркой желто-голубой «украинской» ленточкой в петличке и на утрированно хохлацком жаргоне разглагольствовал о «самостийной Украйне». Слушал его поручик, слушал, да и говорит:
– «Вот что, пане добродию, вылезайте-ка из угла, – я хочу сидеть. Дорога-то ведь наша, русская, да и Самарская губерния тоже Россия, ей в Украйну не попасть».
– «Как так? Позвольте, какое вы имеете право?» – перешел на литературный русский язык желто-голубой железнодорожник.
– «А такое, пане добродию, что я русский, значит, здесь дома у себя, хозяин. Вот поезжайте на Украину, там и посидите. Ну, вылезайте!»
Сконфуженно оглядываясь, под смех остальной публики вышел новоявленный украинец из купе и даже из вагона.
Ехали и делились впечатлениями, интересами текущих дней, событиями войны с большевиками. Офицеры народной армии высказывали недовольство отношением к ним и их полкам Самарского правительства, что развели опять политику, партийную работу, скрытых комиссаров, путаются в распоряжения командного состава; начали чехословаков втягивать во внутреннюю политику, проводя среди них то же, что Керенский проводил в 1917 году в Русской армии для ее развала.
Выяснялось, что Самарское правительство учредителей пропагандирует всячески против Сибирского правительства и Сибирской армии, называя их «монархическими и контрреволюционными»; а в то время если что и можно было поставить в вину сибирякам, то это их слишком сильный крен в сторону социалистов-революционеров.
Оказалось, что много надежд возлагалось в то время русскими людьми на союзников. Как раз в то время прозвучали торжественно на весь мир ноты Английская, Французская, Итальянская, Японская и Американская. Все они призывали Русский народ к продолжению войны против Германии и «их прислужников и агентов, большевиков». Все они заявляли о своей готовности активно поддержать в этом Россию и клялись, что не преследуют никаких личных целей, что ни одна пядь Русской земли не будет никем занята.
До чего была сильна и наивна эта вера Русских в помощь союзников! Одна девушка-курсистка, ехавшая из Бузулука на высшие курсы в Самару, уверяла, что на Волгу направляются пять японских дивизий, что «в Самару приехали уже триста японцев-квартирьеров»…
Подтверждались тревожные слухи с Волжского фронта. Передавали об ужасной социалистической панаме в Казани, где Лебедев и Фортунатов, два партийных работника, забрали власть в свои руки, митинговали с рабочими во время боев, вели переговоры с большевиками и… предали армию.
Самара произвела жуткое впечатление. Большой город, центр торговли Поволжья, с несколькими стами тысяч жителей, казался обреченным местом, ждущим своего приговора и часа. Огромная толпа, улицы полны народом, но все двигается тихо, без обычного шума. Почти на всех лицах написано боязливое, тревожное ожидание и мольба о спасении.
Многие из слухов подтвердились. Я нашел здесь своего однокашника по кадетскому корпусу, полковника С.А. Щепихина, который исполнял должность начальника штаба народной армии при командующем Волжским фронтом чешском поручике Чечеке, произведенном учредителями в генерал-майоры. Вот какими приемами искали они себе опору и сторонников!
Положение было хуже 1917 года; чехи под влиянием пропаганды уже разваливались, воевать не желали; народная армия была крепка только офицерами и добровольцами, да и то в частях, к которым эс-эры получали доступ, там исчезала дисциплина, а с нею вместе и боеспособность. Только отряды полковников Каппеля и Степанова оказывались всюду сильны и духом, и боевыми качествами, так как эти начальники не подпускали и близко к своим войскам социалистов.
Они брали Казань, Симбирск. Каппель проявлял прямо чудеса маневра со своим маленьким отрядом. Но в Казань, сейчас же по взятии ее, нагрянули эс-эры и так все перепортили, что наши едва успели уйти, некоторые там и остались большевикам. Бросили одного сукна на пятимиллионную армию, более ста аэропланов с огромным имуществом, массу пулеметов, патронный завод; в Симбирске оставили огромный инженерный парк всей Императорской Русской армии.
А все оттого, что учредители мешали и противодействовали вывозу: боялись, что все это может попасть в руки Сибирской армии. А понятно, по Волге почти все можно было вывезти.
От других офицеров пришлось слышать рассказы о таких же непорядках в Хвалынске, Вольске, Николаевске. Офицерство и добровольцы были возмущены до крайности.
– «Мы не хотим воевать за эс-эров. Мы готовы драться и отдать жизнь только за Россию», – говорили они.
– «Такое предательство, хуже 1917 года», – горячо рассказывал мне капитан, трижды раненный в Германскую войну и два раза уже в боях с большевиками. «Как только успех и мало-мальски прочное положение, они начинают свою работу против офицеров, снова натравливают массы, мутят солдат, кричат о какой-то “контрреволюционности”. А как опасность, так офицеры вперед. Посылают прямо на уничтожение целые офицерские батальоны»…
Когда я приехал в Самару, оттуда шла уже спешная и довольно беспорядочная эвакуация, управляемая чешскими комендантами.
– «Завтра (это было 19 сентября 1918 года) будут брать места в поездах уже с револьверами в руках».
С большими трудностями и неудобствами, бесконечно долго простаивая на самых маленьких станциях, добрались до Уфы.
Здесь на вокзале стоял оцепленный чешскими часовыми поезд, состоявший из шести классных пульмановских вагонов. Часовые никого не пропускали, образовав на платформе около вагонов большой свободный полукруг.
– «Чей это поезд?» – спросил я одного чеха.
– «Нашего генерала Дитерихса».
– «Какого Дитерихса, русского генерала?»
– «Ну да, а теперь он нами командует, наш генерал».
– «Могу я его видеть?»
– «Да, только его сейчас здесь нет, он поехал в город автомобилем на совещание с директорией».
Отправился я в штаб Верховного Главнокомандующего генерала Болдырева, члена директории. И штаб, и директория, и все ее канцелярии помещались в большой «Национальной гостинице». Здесь сразу пришлось окунуться в обстановку, напоминавшую до жуткости недоброй памяти дни лета и осени 1917 года. Та же беспорядочная снующая без дела толпа, масса юрких штатских брюнетов с горбатыми носами, всюду грязь, неубранный сор, стучат пишущие машинки, здесь же доступный для всех телеграф с армейскими аппаратами Юза.
Шел длинными коридорами, ни от кого не мог добиться толку, как пройти к начальнику штаба. Наконец в самом конце коридора, при входе в ресторанный зал один офицер мне помог.
– «Да вон он сидит у стола, генерал Розанов, начальник штаба».
Опять старый знакомый, еще с довоенного времени, с которым вместе сражались в памятных героических Люблинских боях августа 1914 года. Тепло встретились. Оказалось, что генерал Розанов только несколько дней сам прорвался через большевицкий фронт.
– «Шел в красной рубахе, как простой крестьянин. Сначала свои пускать не хотели, взяли под подозрение»…
Рассказал коротко ему и мои злоключения у большевиков в тюрьме, случайное спасение, и как дважды пробирался через их фронт.
Здесь же встретил своего давнего приятеля, полковника генерального штаба Д.А. Лебедева, который работал на Дону вместе с генералами Корниловым и Алексеевым, а теперь пробрался сюда из Добровольческой армии через Москву. Затем вскоре подошел уральский казак, генерал-майор Хорошкин, оказавшийся однокашником по кадетскому корпусу.
Оба они были в Уфе уже несколько недель, с самого государственного совещания. Несколько часов проговорили мы; оба они по очереди, один дополняя другого, нарисовали мне обстановку, военную и политическую, среди которой родилась Российская директория.
Из рассказов еще многих очевидцев тех дней и из тогдашних уфимских газет устанавливается такая картина. После начала восстания, когда отряды русских офицеров и добровольцев, поддержанные чехословаками, свергли иго большевиков и рассеяли их красноармейские полки, образовалось много местных правительств. В Самаре знаменитый Комуч (Комитет членов учредительного собрания, или, как тогда больше называли, учредиловки), в Уральске – казачье правительство, в Оренбурге – атаман Дутов с Оренбургским казачьим кругом, в Екатеринбурге – Уральское горное правительство, образованное евреем Кролем и имевшее всего один уезд территории, в Омске – Сибирское правительство, в Чите – атаман Семенов, на Дальнем Востоке, в Харбине и Владивостоке одновременно три правительства: генерала Хорвата, еврея Дербера и коалиционное.
В то же время отряды чехов были рассредоточены по всей линии Великого Сибирского пути, от Волги до Тихого океана, их военное начальство и политический комитет отдавали свои распоряжения и пытались также управлять.
Получалась полная разноголосица и сумбур. Тогда было созвано в Уфе государственное совещание для выбора единой авторитетной Российской власти.
В совещание вошли представители большинства перечисленных правительств, все наличные члены первого эс-эровского учредительного собрания, партии меньшевиков, эс-эров, умеренных социалистов, кадет и представители от некоторых казачьих войск. Состав крайне пестрый, не выражавший народных масс (как и все собрания, начиная с марта 1917 года), и с сильным преобладанием партийных социалистических работников; последние определенно вели линию этого совещания за признание Комуча как правительства Всероссийского.
Но на это не шли остальные члены совещания – несоциалисты. Дело чуть не расстроилось.
Вот тогда-то выступили на сцену чехи. Их политический руководитель доктор Павлу заявил на этом совещании от имени Чехословацкого корпуса, что если не будет образована единая власть, то чехи бросают фронт; причем было произведено им еще одно давление на совесть собравшихся и заявлено: чехи полагают, что единственным законным и революционным правительством будет то, которое признает учредительное собрание первого созыва и которое будет в свою очередь признано и поддержано этими «учредителями». Для всякого русского было ясно, что под этим подразумевались социалисты-революционеры, т. е. партия, ввергшая под руководительством своего лидера Керенского в 1917 году Россию в бездну разрушения, позора и Гражданской войны.
Заявление Павлу, однако, заставило всех пойти на открытия уступки, оставив втайне свои истинные намерения. Очень быстро было достигнуто соглашение, которое и подписали все участники Уфимского государственного совещания.
В качестве Всероссийской власти признавалась избранная этим же совещанием директория из пяти лиц под председательством Авксентьева, ближайшего сотрудника и партийного товарища Керенского. Далее следовал пункт, что директория ответственна в своих действиях перед учредительным собранием первого созыва и что, как только соберется определенное число членов его (помнится, 250), директория обязана передать всю полноту власти этому кворуму учредиловцев.
Директория вступила во власть, т. е. начала на бумаге отдавать распоряжения, писать к народу воззвания, выпускать международный декларации. Собиралась образовывать кабинет министров, причем еще на совещании было обещано взять готовый аппарат министров от Сибирского правительства в Омске. Почти все соглашение сделано в угоду Комучу, который примазался к народной армии, восставшей на борьбу против большевиков.
Имея в своем составе более шестидесяти процентов иудеев, учредиловцы, с присущим своей партии апломбом, не постеснялись еще раз назваться избранниками Русского народа, не остановились перед преступной игрой еще раз на русской крови. Какое самодовольство звучало в словах – фронт учредительная собрания!..
И как раз теперь, когда все было сделано по их вожделениям, когда власть вторично после революции попадала в руки той же партии, она показала себя совершенно неспособной к какой-либо не то что творческой, а просто плодотворной работе.
Падали один за другим города на Волге. Отданы Хвалынск, Вольск, Сызрань, Самара, дальше отступили и очистили Кинель, Бугульму и подходили к Уфе. Вся местность, громко называвшаяся «территорией учредительного собрания», оказалась уже к началу октября в руках большевиков.
Директория спешно укладывала чемоданы и готовилась к переезду. Куда? Вот вопрос, вставший перед всеми. Сначала хотели в Екатеринбург, как центр Урала и, так сказать, независимый город. Но казалось, слишком близко от боевого фронта и слишком ненадежно. Решено было ехать в Омск, в столицу Сибирского правительства, хотя здесь как-то сама собою напрашивалась всем мысль, что директория едет в гости, на готовое к сибирякам, у которых был уже сконструирован работоспособный аппарат управления, образована сильная армия; мобилизация среди крестьян и рабочих Сибири прошла так успешно, что была несомненна полная поддержка Сибирского правительства всем населением.
В Уфе я на несколько лет расстался со своим верным другом, – моя жена решила ехать в Саратов к оставшимся там детям, чтобы попытаться их вывезти ко мне на восток. Надежным путем была доставлена она в Кинель, где проходил тогда отступавший чешско-учредиловский фронт, оттуда на лошадях направилась в Самару. Исчезла надолго в кровавом тумане, которым социалисты-большевики окутали Русскую землю…
По приезде в Омск директории и разноцветной толпы беженцев сразу обнаружилось течение масс не в ее пользу; с другой стороны – директория оказалась настолько несостоятельной, что почти никто с нею не считался. Один раз, например, вечером в гостиницу «Европа», где стояли члены директории, явились несколько человек из партизанского отряда Красильникова с криками, что они пришли арестовывать директоров. Этот скандал удалось локализировать только самому Верховному Главнокомандующему генералу Болдыреву; но никаких мер воздействия, никакого наказания виновных фактически в государственном преступлении – директория провести не могла. Власть была до того бессильна, что на вопросы генерала Болдырева к некоторым из кадровых офицеров: «какое место Вы желаете занять», он получал в ответ: «я не желаю вовсе служить здесь, с эс-эрами»…
В массах народных к директории относились совершенно безразлично, слои интеллигентные неодобрительно, а армия на фронте буквально начинала ее ненавидеть и глухо волновалась, спрашивая, за кого же и для чего она будет проливать кровь и жертвовать жизнями, раз нет веры и нет малейшей очевидности, что новая мифическая власть может спасти и оздоровить Россию.
А признаки, подтверждавшие этот печальный вывод, все сгущались и увеличивались. Директория была в Омске более двух недель и все еще не могла сговориться об образовании общего Российского аппарата министерства. Делами продолжал управлять Сибирский кабинет, причем один из его самых энергичных членов, Сибирский военный министр генерал Иванов-Ринов поехал в Читу и на Дальний Восток, чтобы там на местах наладить формирование армии и дело снабжения ее нашими русскими запасами и присланными от союзников.
В Омске шли долгие переговоры, различные персональные перестановки в проекте состава кабинета. Но дело не двигалось.
В конце сентября приехал в Омск из Харбина адмирал Колчак в качестве частного человека и даже в штатском платье. Я был у него на третий день приезда, и мы проговорили целый вечер. Адмирал рассказывал мне подробно о своих поездках в Америку и Японию, о положении на Дальнем Востоке, о роли разных союзников-интервентов, причем смотрел он на все мрачными глазами. Он тогда, еще в октябре 1918 года, высказывал мысль, что союзники преследуют какие-то скрытые цели, что поэтому мало надежды на помощь с их стороны.
– «Знаете ли, мое убеждение, что Россию можно спасти только русскими силами. Самое лучшее, если бы они совсем не приезжали, – ведь это какой-то новый интернационал. Положим, очень уж бедны мы стали, без иностранного снабжения не обойтись, ну а это, значит, попасть им в зависимость».
– «Я намерен пробраться в Добровольческую армию и отдать свои силы в распоряжение генералов Алексеева и Деникина», – закончил адмирал Колчак.
Около того же времени прибыл особым поездом, с пулеметами и целой командой, одетой в новенькую солдатскую форму с сине-белыми погонами, член Комуча Роговский. На вопросы, что означает такой приезд и каково назначение сине-белого отряда, Роговский давал ответ:
– «Я прибыл в качестве министра полиции нового кабинета, а отряд мой есть кадр новой полиции, которую я начну образовывать по всей территории».
Оказалось, что председатель директории Авксентьев дал в Уфе обязательство своей партии обеспечить портфель министра полиции для члена Комуча, которым и был намечен Роговский. Шито было слишком белыми нитками. Несомненно, что если Роговский образует всюду свою полицию, партийную эс-эровскую, то фактически вся власть в стране попадает в руки опять этой злосчастной партии. На это никто не шел. Соглашение, почти достигнутое с сибиряками, вновь расстроилось.





