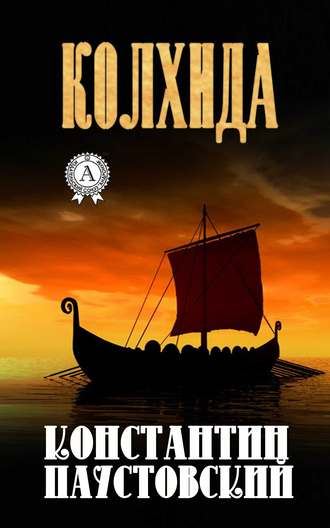
Константин Паустовский
Колхида
Повесть
ДИКАЯ КОШКА
Кто убьет кошку,
тот подлежит смерти.
Древний мингрельский закон
Ветер швырнул в окна духана горсть пыли и сухих розовых лепестков. Нервно перебирая зелеными листьями, заволновались пальмы; их шум был похож на скрежет. Дым из труб мчался вдоль плоских улиц Поти, смывая запах отцветающих мандаринов. Лягушки на городской площади перестали кричать.
– Будет дождь, – сказал молодой инженер Габуния.
Он с досадой посмотрел за окно. На стекле проступала замазанная мелом надпись: «Найдешь чем закусить».
Дождь медленно надвигался с моря. Он лежал над водой, как тяжелый дым. В дыму белыми клочьями метались и визжали чайки.
– Двести сорок дней в году здесь лупит непрерывный дождь, – добавил Габуния.
– Пламенная Колхида! – пробормотал Лапшин. – Один ученый высчитал, что на землю ежегодно выпадает девяносто кубических километров дождя. По-моему, все эти дожди выливаются здесь.
Эти слова не произвели на Габунию никакого впечатления.
Хозяин духана, толстый гуриец, задыхался от астмы. Он был равнодушен ко всему на свете – к обедавшим инженерам, к старику с посохом, Артему Коркия, понуро сидевшему за пустым столиком, к бродячему самоучке-художнику Бечо и даже к приближавшемуся ливню. Он томился от духоты и хмурых мыслей, сгонял мух со стаканов, липких от вина, и изредка пощелкивал на счетах.
Бечо рисовал масляными красками на стене духана необыкновенную картину. Сюжет картины ему подсказал Габуния. Она изображала Колхиду в будущем, когда вместо обширных теплых болот эта земля зацветет садами апельсинов. Золотые плоды, похожие на электрические лампочки, горели в черной листве. Розовые горы дымились, как пожарище. Белые пароходы проплывали среди пышных лотосов и лодок с нарядными женщинами. В садах пировали мингрелы в галифе и войлочных шляпах, и ко всему этому детскому пейзажу простирал руки старик в черкеске, с длинными вьющимися волосами и лицом Леонардо да Винчи.
– Где он взял портрет Леонардо? – спросил Лапшин.
Габуния покраснел:
– Я ему дал. Пусть рисует.
Лапшин пожал плечами.
Тяжелые капли медленно ударяли по тротуару. Духан начал наполняться людьми, спасавши-мися от дождя. Они смущенно здоровались с хозяином, так как ничего не могли заказать. Потом каждый внимательно рассматривал работу Бечо.
Гул восхищения перебегал от столика к столику. Люди щелкали языками и удивлялись мастерству этого кроткого человека.
Хозяин, внимая общему восторгу, сердито нашвырял на тарелку кукурузной каши и жареной рыбы, налил стакан терпкого вина и подал Бечо. Это была ежедневная плата ему за работу.
Бечо сполоснул руки вином, съел рыбу, закрыл глаза и вздохнул. Он отдыхал. Он слушал шепот похвал и думал, что хотя духан и кооперативный, но хозяин явно обманывает его и кормит хуже, чем было условлено.
Шум дождя начал заглушать говор посетителей духана. Вода пела в водосточных трубах и с шипением хлестала в закрытые окна. Капли торопливо выстукивали дощатые стены и вывески, будто тысячи маленьких жестянщиков и плотников затеяли веселое соревнование.
Дул юго-западный ветер. Он гнал тучи, как отару серых овец, и прижимал их к стене Гурийских гор.
Постепенно к плеску, стуку, шороху, бульканью – ко всем легкомысленным звукам воды присоединились тяжелый гул людских голосов и гортанные выкрики.
Посетители духана бросились к окнам. Мокрая толпа валила по мостовой. Впереди бежали мальчишки. За ними шел высокий мрачный человек с ружьем, закинутым за плечо. Глаза его дико сверкали. Он гордо нес за хвост черного мохнатого зверя. С морды зверя падали капли дождя и крови.
Из соседней парикмахерской выскочил маленький старик с намыленным лицом. Мыло стекало на его серую черкеску. Он пощупал зверя и отшатнулся.
– Рамбавия! – крикнул он. – Ты застрелил дикого кота, кацо!
Толпа зашумела. Охотник вошел в духан. Он швырнул мокрого, скользкого зверя хозяину. Звякнули стаканы. Гул от удара тяжелой туши о прилавок потряс воздух.
В духане стало тесно. Люди кричали с таким азартом, будто дело шло о жизни и смерти.
Владелец зверя вытер ладонью мокрое лицо и предложил хозяину глухим и грозным голосом:
– Купи шкуру, заведующий.
Толпа стихла. Нельзя было пропустить ни одного слова из этого необыкновенного торга. Дело шло о шкуре дикого кота, быть может последнего дикого кота, застреленного в болотистых лесах Колхиды.
Хозяин духана смотрел на зверя желтыми глазами и молчал. Девушка с курицей под мышкой и букетом роз в руке влезла на стул и заглядывала на прилавок.
Курица перестала выклевывать лепестки роз, закудахтала и всплеснула крыльями. Тогда старик Артем Коркия закричал, потрясая над головой посохом:
– Проклятие на твою голову, кацо! Ты убил кошку. В старые времена за это наказывали смертью.
– Я извиняюсь, – владелец зверя хмуро посмотрел на Коркию, – я извиняюсь перед старым человеком, но это не кошка.
Толпа ахнула. Только сейчас она увидела, что это вправду не дикий кот. На прилавке лежал мохнатый зверь, похожий на громадную крысу.
– Так что же это такое, если не кошка? – растерянно спросил Коркия.
– Не горячись, ради бога! – крикнул владелец зверя с глухой яростью. Смотри глазами!
Габуния и Лапшин протискались к прилавку. Зверь был странный. На его сильных лапах желтели плавательные перепонки. Длинный голый хвост свисал почти до земли.
Толпа недоумевала. Все смотрели на хозяина духана и ждали. Но хозяин задыхался и сердито молчал.
В это время появился аспирант Института пушнины Вано Ахметели. Он легко шел через толпу, как через пустую площадь, отстраняя зевак. За ним спешил маленький милиционер Гриша с роговым свистком в руке.
Вано подошел к прилавку и поднял зверя за хвост. Гриша засвистел, расставил руки и начал пятиться, оттесняя толпу. Он кричал на упрямых и издевался над человеческим любопытством:
– Ай, умрешь, когда не увидишь? Какой любопытный! Смех душит смотреть на таких глупых людей!
– Где убил? – спросил Вано охотника и сжал густые брови.
– На Турецком канале.
– Как тебя зовут?
– Гулия.
– Ну что ж, Гулия, – тихо сказал Вано, – ты убил запрещенного зверя. Две недели посидишь.
Гулия сердито высморкался. Потом он страшно посмотрел на Вано и пробормотал:
– Крысиный сторож! Убью лягушку, ты тоже меня арестуешь?
– Не волнуйся, кацо. На суде тебе дадут слово… Гриша, сходи с ним в милицию.
Толпа повалила за Гришей и Гулией. Охотник был взбешен. Он снова нес зверя за хвост, но уже без прежней гордости. Зверь стучал головой о мокрые плиты тротуара.
Дождь затихал. Он сыпался мелкой пылью.
В духане остались Габуния, Вано и Лапшин.
– Что это за животное? – спросил Лапшин. Вано притворно удивился:
– Неужели не знаете? Аргентинский зверь нутрия с реки Рио-Негро.
– Простите мое невежество, – ответил язвительно Лапшин, – но я не зоолог, а ботаник.
– Вы специалист по влажным субтропикам. Должны бы, кажется, знать.
Габуния постарался замять разговор, готовый перейти в ссору. Каждая встреча Вано с Лапшиным кончалась колкостями. Вано не любил молодого ботаника за его американские костюмы из мохнатой розовой шерсти и изысканные манеры. Вано казалось, что ботаник смотрит на советские дела свысока, как знатный иностранец.
Габуния краснел от всяких резких выходок. Он был застенчив, высок. Малярия покрыла желтым налетом белки его всегда улыбающихся глаз.
– Нутрия, – сказал он, смешавшись, – самый драчливый зверь в мире.
Эта новость была встречена равнодушно. Вано с горечью посмотрел на Габунию:
– Когда ты высушишь болота и сделаешь из Колхиды вот эти замечательные сады, что рисует Бечо, нутрия погибнет. Ты главный убийца нутрий. Им нужны джунгли, а не лимонные сады. Конечно, жаль…
Все посмотрели на картину Бечо. Дождь стих. Солнечный свет прошел через листву магнолий и превратился в зеленоватый сумрак. В этом мягком освещении картина Бечо показалась Габунии совсем новой. Хотелось потрогать пальцем тяжелые апельсины.
– Чего жаль? – спросил рассеянно Габуния.
– Работы, – ответил Вано. – Два года я ухлопал на этих проклятых зверей. Я заведующий их размножением. Мне жалко напрасной работы и джунглей, повторил Вано. – Твои экскаваторы разогнали диких кабанов. Даже шакалы удирают в горы.
– Ну и черт с ними!
Лапшин ушел. Ему хотелось расспросить Вано, как попала нутрия из Аргентины в эти места, но он сдержался.
Весь окружающий мир был ему неприятен. Ему не нравилась эта плоская болотистая страна с пышным названием, не нравились затяжные теплые дожди, мутные реки, мчавшиеся в море со скоростью курьерских поездов, деревянные дома на сваях, наконец духаны, где подавали теплое вино с привкусом касторки.
Снова начал накрапывать дождь. Солнце исчезло. И, как всегда во время дождя, город наполняли запахи настолько резкие, что их можно было воспринимать на ощупь. То были мягкие запахи эвкалиптов, липнущий к лицу запах роз, стягивающий кончики пальцев запах лимонов. Но все эти запахи существовали только до первого порыва ветра. Стоило ему прошуметь по садам, перевернуть листья и махнуть пылью по улицам, как все менялось. Вместо сладких испарений, вызывающих лень и головную боль, город продувало едким морским сквозняком.
Габуния любил ветры. Ему казалось, что они выдувают из его тела малярийную слабость.
– Когда будут судить этого человека? – спросил Габуния.
– Дня через два.
Габуния попрощался с Вано и вышел на улицу. Рион ревел, сотрясая мосты, и катил в море жидкую глину. Габуния медленно, походкой малярика, пошел к порту.
Он думал о том, что собственная мягкость ставит его в ложное положение. Он избегал разговоров с Вано. Его не оставляло ничем не оправданное чувство вины перед Вано за то, что он, Габуния, осушает колхидские болота, проводит каналы, выкорчевывает девственные леса и сжигает джунгли, где живет нутрия.
Зверя этого привезли с большим трудом из Аргентины и выпустили размножаться в колхидс-ких болотах. Вано два лета сряду следил за размножением нутрии и рассказывал чудеса о ее драгоценном мехе.
Нутрия плодилась быстро, но никто ее не видел, кроме Вано и редких мингрелов-охотников. Они рассказывали о страшной драчливости этих зверей. Нутрии дерутся сутками, и всегда насмерть. Они очень пугливые и не подпускают человека даже на сто шагов, но во время драки приходят в такую ярость, что к ним можно смело подойти и растащить дерущихся за хвосты. Драка всегда начинается с одного и того же сильного приема: нутрии вцепляются друг другу в пасть и стараются выломать зубы. Нутрия, нырнув, может просидеть под водой минут пять без воздуха.
Габуния не понимал, как только Вано может возиться с этим отвратительным зверем.
Вано, изучая нутрию, целые месяцы проводил в болотах. Постепенно он стал певцом колхидских джунглей – душных лесов, перевитых лианами, гнилых озер, всей этой запущенной, разлагающейся на корню малярийной растительности.
Вано называл леса Колхиды тропическими, хотя, кроме северной ольхи и рододендронов, в них почти не было других деревьев. Здесь было странное смешение севера и юга. Ольха в Колхиде росла со сказочной быстротой. На свежей порубке в три года вырастал непроходимый лес.
Габуния чувствовал, что Вано втайне враждебен громадным осушительным работам, начатым в Колхиде. Вано откровенно радовался тому, что работы идут медленно из-за малярии, наводнений, дождей и тонущих в болотах экскаваторов.
Габуния знал, что рано или поздно придется дать Вано бой по всему фронту. Но все же иногда ему было жаль Вано: экскаваторы шаг за шагом врезались в легендарные земли Вано, рвали лианы, вычерпывали озера вместе со смуглыми, золотыми сазанами, гнали к морю кабанов и нутрию и оставляли за собой глубокие рвы, горы липкой глины и кучи гнилых пней.
Леса Колхиды стояли по колено в воде. Корни деревьев плохо держались в илистой почве. Несколько рабочих легко валили дерево, обвязав его цепью. Это считалось безопасной работой. Деревья никогда не падали. Они повисали на колючих лианах толщиной в человеческую руку. Леса густо заросли облепихой и ломоносом, ежевикой и папоротником.
Сила растительности была потрясающей. Ломонос всползал на деревья и переламывал их, как траву. Кусты ежевики подымались на глазах. За лето они вырастали на два метра.
Трава в этих лесах не росла. В них было темно, душно и почти не было птиц. Птиц заменяли летучие мыши. Леса стояли непроходимые и мертвые в тумане теплых дождей.
Когда дул ветер, леса внезапно меняли темный цвет и становились точно ртутными. Ветер переворачивал листву ольхи, снизу она была серой.
Дни, месяцы и годы леса шумели и качались волнами тусклого серебра, и Габуния прекрасно понимал досаду Вано. Иногда и ему было жаль этих лесов.
Начальник осушительных работ в Колхиде инженер Кахиани смотрел на вещи гораздо проще. Он не замечал ни лесов, ни озер, заросших кувшинкой, ни бесчисленных рек, пробиравшихся в зеленых туннелях листвы. Все это подлежало уничтожению и ощущалось им как помеха.
Кахиани считал Вано глупым юнцом. В ответ на горячие речи в защиту джунглей и нутрии Кахиани небрежно отмахивался и крякал. Гримаса горечи никогда не сходила с его лица. Говорили, что эта гримаса появилась у него от злоупотребления хиной: Кахиани не спеша разжевывал хинные таблетки и глотал их, не запивая.
Сожаление о прошлом, о девственных лесах было ему органически чуждо. Он считал, что природа, предоставленная самой себе, неизбежно измельчает и выродится. Со скукой в глазах он доказывал это ссылками на работы видных ученых.
Габунию начальник работ считал способным, но слишком мечтательным инженером. Он называл его «романтиком инженерии» и сердился, когда находил в комнате Габунии книгу стихов Маяковского или Блока.
– Самая классическая литература, – говорил Кахиани, – это математика. Все остальное – тарарам!
Единственным человеком, который сочувствовал Вано, был старый инженер Пахомов, автор грандиозных проектов осушения колхидских болот. Сидя над синими чертежами, он изредка вздыхал:
– Я рад, что не доживу до конца работ. Искренне рад! Все-таки, знаете, жалко уничтожать природу.
И тут же прокладывал на кальке сеть каналов через только что оплаканные девственные леса и стучал карандашом по столу:
– Еще две тысячи гектаров выкроим под цитрусы! Недурно!
Старик был чудаковат. Это он подговорил Бечо пририсовать к пейзажу в духане фигуру Леонардо.
– Как же ты, друг, рисуешь будущую Колхиду и без такого мелиоратора, как Леонардо да Винчи? – упрекнул он Бечо.
Бечо с недоверием посмотрел на Пахомова:
– Так он же был художник!







