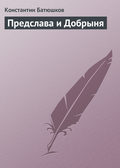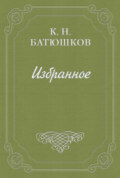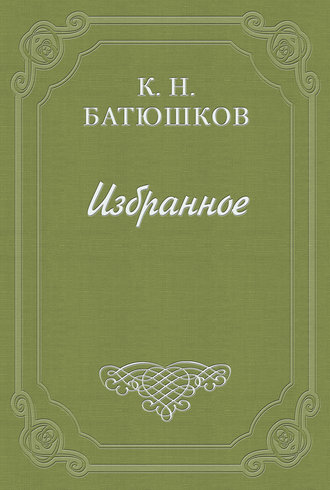
Константин Батюшков
Опыты в стихах и прозе. Часть 1. Проза
XI. Ариост и Тасс
Учение италиянского языка имеет особенную прелесть. Язык гибкий, звучный, сладостный, язык, воспитанный под счастливым небом Рима, Неаполя и Сицилии, среди бурь политических и потом при блестящем дворе Медицисов, язык, образованный великими писателями, лучшими поэтами, мужами учеными, политиками глубокомысленными, – этот язык сделался способным принимать все виды и все формы. Он имеет характер, отличный от других новейших наречий и коренных языков, в которых менее или более приметна суровость, глухие или дикие звуки, медленность в выговоре и нечто принадлежащее Северу. – Великие писатели образуют язык; они дают ему некоторое направление, они оставляют на нем неизгладимую печать своего гения – но, обратно, язык имеет влияние на писателей. Трудность выражать свободно некоторые действия природы, все оттенки ее, все изменения останавливает нередко перо искусное и опытное. Ариост, например, выражается свободно, описывает верно все, что ни видит (а взор сего чудесного Протея обнимает все мироздание); он описывает сельскую природу с удивительною точностию – благовонные луга и рощи, прохладные ключи и пещеры полуденной Франции, леса, где Медор, утомленный негою, почивает на сладостном лоне Анжелики; роскошные чертоги Альцины, где волшебница сияет между нимфами (Si come e bello il sol piu d'ogni Stella![31]); все живет, все дышит под его пером. Переходя из тона в тон, от картины к картине, он изображает звук оружия, треск щитов, свист пращей, преломление копий, нетерпеливость коней, жаждущих боя, единоборство рыцарей и неимоверные подвиги мужества и храбрости; или брань стихий и природу, всегда прелестную, даже в самых ужасах (bello ё Гоггоге[32])! Он рассказывает, и рассказ его имеет живость необыкновенную. Все выражения его верны и с строгою точностию прозы передают читателю блестящие мысли поэта. Он шутит, и шутки его, легкие, веселые, игривые и часто незлобные, растворены аттическим остроумием. Часто он предается движению души своей и удивляет вас, как оратор, порывами и силою мужественного красноречия. Он трогает, убеждает, он невольно исторгает у вас слезы; сам плачет с вами и смеется над вами и над собою; или увлекает вас в мир неизвестный, созданный его музою; заставляет странствовать из края в край, подниматься на воздух; он вступает с вами в царство Луны, где находит все, утраченное под Луною, и все, что мы видим на земноводном шаре: но все в новом, пременном виде; снова спускается на землю и снова описывает знакомые страны, и человека, и страсти его. – Вы без малейшего усилия следуете за чародеем, вы удивляетесь поэту и в сладостном восторге восклицаете: какой ум! какое дарование! а я прибавлю: какой язык!
Так, один язык италиянский (из новейших, разумеется), столь обильный, столь живый и гибкий, столь свободный в словосочинении, в выговоре, в ходе своем, один он в состоянии был выражать все игривые мечты и вымыслы Ариоста, и как еще? в теснейших узах стихотворства (Ариост писал октавами). Но перенесите этого чародея в другой век, менее свободный в мыслях[33], более порабощенный правилам сочинения, основанным на опытности и размышлении, дайте ему язык северного народа, какой заблагорассудите, – английский или немецкий, например, – и я твердо уверен, что певец «Орланда» не в силах будет изображать природу так, как он постигал ее и как описал в своей поэме: ибо (еще повторю) поэма его заключает в себе все видимое творение и все страсти человеческие; это «Илиада» и «Одиссея»; одним словом, – природа, порабощенная жезлу волшебника Ариоста[34]. Но счастливому языку Италии, богатейшему наследнику древнего латинского, упрекают в излишней изнеженности! Этот упрек совершенно несправедлив и доказывает одно невежество; знатоки могут указать на множество мест в Тассе, в Ариосте, в самом нежном поэте Валлакиузском и в других писателях, менее или более славных, множество стихов, в которых сильные и величественные мысли выражены в звуках сильных и совершенно сообразных с оными; где язык есть прямое выражение души мужественной, исполненной любви к отечеству и свободе. Не одно «Chiama gli abitator»[35] найдете в Тассе; множество других мест доказывают силу поэта и языка. Сколько описаний битв в поэме Торквато! И мы смело сказать можем, что сии картины не уступают или редко ниже картин Вергилия. Они часто напоминают нам самого Омера.
Посмотрите на это ужасное последствие войны, на груды бледных тел, по которым бегут исступленные воины, преследуя матерей, прижавших трепетных младенцев к персям своим:
Ogni cosa di strage era gia pieno;
Vedeansi in mucchi e in monti i corpi avvolti.
La i feriti su i morti, e qui giacieno
Sotto morti in sepolti, egri sepolti.
Fuggian premendo i pargoletti al seno,
Le meste madri, со capegli sciolti:
E'l predator di spoglie e di rapine
Carco, stringea le vergine nel crine.
«Все места преисполнились убийством. Груды и горы убиенных! Там раненые на мертвых, здесь мертвыми завалены раненые; прижав к персям младенцев, убегают отчаянные матери с раскиданными власами; и хищник, отягченный ограбленными сокровищами, хватает за власы дев устрашенных».
Желаете ли видеть поле сражения, покрытое нетерпеливыми воинами, – картину единственную, величественную! Солнце проливает лучи свои на долину; все сияет: и оружие разноцветное, и стальные доспехи, и шлемы, и щиты, и знамена. Слова поэта имеют нечто блестящее, торжественное, и мы невольно восклицаем с ним: bello in si Bella vista anco e 1 orrore![36]
Grande e mirabil cosa era il vedere
Quando quel campo, e questo a fronte venne:
Come spiegate in ordine le shiere;
Di mover gia, gia d assalire accenne:
Sparse al vento ondeggiando ir le bandiere,
E, ventolar su i gran cimier le penne;
Abiti, fregi, imprese, arme e colori
D oro e di ferro al sol lampi e folgori.
Sembra d'alberi densi alta foresta
(L'un campo e l'altro, di tant'aste abonda!)
Son tesi gli archi, e son le lance in resta:
Vibransi i dardi, e rotasi ogni fionda. —
Ogni cavallo in guerra anco s appresta:
Gli odi e'l furor del suo signor seconda:
Raspa, batte, nitrisce e si raggira;
Gonfia le nari, e fumo e foco spira.
Bello in si bella vista anco e l'orrore!
«Открылось великолепное и удивительное зрелище, когда оба войска выстроились одно против другого, когда развернулись в порядке полчища, двигаться и нападать готовые! Распущенные по ветру знамена волнуются; на высоких гребнях шлемов перья колеблются; испещренные одежды, вензели и цветы оружий, злато и сталь ярким блеском и сиянием лучи солнечные отражают.
В густой и высокой лес сомкнулись копья: столь многочисленно и то и другое воинство! Натянуты луки, обращены копья, сверкают дротики, пращи крутятся, самый конь жаждет кровавой битвы: он разделяет ненависть и гнев ожесточенного всадника; он роет землю, бьет копытами, ржет, крутится, раздувает ноздри и дымом и пламенем пышет».
Но битва закипела, час от часу становится сильнее и сильнее. В сражении есть минуты решительные; я на опыте знаю, что они не столь ужасны. Победитель преследует, побежденный убегает; и тот и другой увлекаются примером товарищей своих, и тот и другой заняты собою. Но минута ужасная есть та, когда оба войска, после продолжительного и упорного сопротивления, истощив все усилия храбрости и искусства воинского, ожидают решительного конца, – победы или поражения; когда все гласы, все громы сольются воедино и составят нечто мрачное, неопределенное и беспрестанно возрастающее, – эту минуту поэт описывает с необыкновенною верностию:
Cosi si combatteva: e in dubbia lance
Col timor le speranze eran sospese.
Pien tutto il campo e di spezzate lance,
Di rotti scudi, e di troncato arnese:
Di spade a i petti, a le squarciate pance
Altre confitte, altre per terra stese:
Di corpi altri supini, altri co'volti
Quasi mordendo il suolo, al suol rivolti. —
Giace il cavallo al suo signore appresso
Giace il compagno appo il compagno estinto,
Giace il nemico appo il nemico, e spresso
Sul morto il vivo, il vincitor sul vinto.
Non v e silenzio, e non v'e grido espresso,
Ma odi un non so che roco, e indistinto.
Fremiti di furor, mormori d'ira,
Gemiti di chi langue, e di chi spira.
L arme, che gia ci liete in vista foro,
Faceano or mostra spaventosa e mesta.
Perduti ha i lampi il ferro, e i raggi l'oro,
Nulla vaghezza a i bei color piu resta.
Quanto apparia d'adorno, e di decoro
Ne cimieri, e ne' fregi, or si calpesta
La polve ingombra cio ch al sangue avanza,
Tanto i carapi mutata avean sembianza![37]
«Так ратовало воинство с равным страхом и надеждою. Все поле завалено преломленными копьями, разбитыми щитами и доспехами. Мечи вонзилися в грудь, в прободенные панцири; иные по земле разметаны. Здесь трупы, ниц поверженные в прах; там трупы, лицом обращенные к солнцу.
Лежит конь близ всадника, лежит товарищ близ бездыханного товарища; лежит враг близ врага своего и часто мертвый на живом, победитель на побежденном. Нет молчания, нет криков явственных; но слышится нечто мрачное, глухое: клики отчаяния, гласы гнева, воздыхания страждущих, вопли умирающих.
Оружие, дотоле приятное взорам, являет зрелище ужасное и плачевное. Утратила блеск и лучи свои гладкая сталь. Утратили красоту свою разноцветные доспехи. Богатые шлемы, прекрасные латы в прахе ногами попраны. Все покрыто пылью и кровью: столь ужасно пременилось воинство!»[38]
Мы не можем останавливаться на всех красотах «Освобожденного Иерусалима»; их множество! Прелестный эпизод Эрминии, смерть Клоринды, Армидины сады и единоборство Танкреда с Аргантом: кто читал вас без восхищения? Вы останетесь незабвенными для сердец чувствительных и для любителей всего прекрасного! Но в поэме Тассовой есть красоты другого рода; и на них должно обратить внимание поэту и критику. Описание нравов народных и обрядов веры есть лучшая принадлежность эпопеи. Тасс отличился в оном. С каким искусством изображал он нравы рыцарей, их великодушие, смирение в победе, неимоверную храбрость и набожность! С каким искусством приводит он крестовых воинов к стенам Иерусалима! Они горят нетерпением увидеть священные верхи града господня. Издали воинство приветствует его беспрерывными восклицаниями, подобно мореплавателям, открывшим желанный берег. Но вскоре священный страх и уныние сменяют радость: никто без ужаса и сокрушения не дерзает взглянуть на священное место, где сын божий искупил человечество страданием и вольною смертию.
Главы и ноги начальников обнажены; все воинство последует их примеру, и гордое чело рыцарей смиряется пред тем, кто располагает по воле и победою, и лаврами, и славою земною, и царством неба. Такого рода красоты, суровые и важные, почерпнуты в нашей религии: древние ничего не оставили нам подобного. Все обряды веры, все страшные таинства обогатили Тассову поэму. – Ринальдо вырывается из объятий Армиды; войско встречает его с радостными восклицаниями. Юный витязь беседует снова с товарищами о войне, о чудесах очарованного леса, которые он один может разрушить: но простый отшельник Петр советует рыцарю исповедью очиститься от заблуждений юности, прежде нежели он приступит к совершению великого подвига. «Сколько ты обязан Всевышнему! – говорит он. – Его рука спасла тебя; она спасла заблудшую овцу и причислила ее к своему стаду. Но ты покрыт еще тиною мира, и самые воды Нила, Гангеса и Океана не могут очистить тебя: одна благодать совершит сие…» Он умолк, и сын прелестной Софии, сей гордый и нетерпеливый юноша, повергается К стопам смиренного отшельника, исповедует ему прегрешения юности своей и, очищенный от оных, идет бестрепетно в леса, исполненные очарований волшебника Йемена. – Годофред, желая осадить город, приготовляет махины, стенобитные орудия; но строгий Петр является в шатер к военачальнику. «Ты приготовляешь земные орудия, – говорит он набожному повелителю, – а не начинаешь, отколе надлежит. Начало всего на небе. Умоляй ангелов и полки святых; подай пример набожности войску». И наутро отшельник развевает страшное знамя, в самом раю почитаемое; за ним следует лик медленным шагом; священнослужители и воины (соединившие в руке своей кадильницу с мечом), Гвильем и Адимар, заключают шествие лика; за ними Годофред, начальники и войско обезоруженное. Не слышно звуков трубы и гласов бранных; но гласы молитвы и смирения:
Те genitor, te figlio equale al padre,
E te, che d'ambo uniti amando spiri,
E te d'uomo, e di dio vergine madre,
Invacano propizia a i lor desiri[39], —
и проч. и проч.
Так шествует поющее воинство, и гласы его повторяют глубокие долины, высокие холмы и эхо пустынь отдаленных. Кажется, другой лик проходит в лесах, доселе безмолвных, и явственно великие имена Марии и Христа воспевает. Между тем со стен города взирают в безмолвии удивленные поклонники Магаммеда на обряды чуждые, на велелепие чудесное и пение божественное. Вскоре гласы проклятий и хулений неверных наполняют воздух: горы, долины и потоки пустынные их с ужасом повторяют.
Таким образом великий стихотворец умел противупоставить обряды, нравы и религии двух враждебных народов, и из садов Армидиных, от сельского убежища Эрминии перенестись в стан христианский, где все дышит благочестием, набожностию и смирением. Самый язык его изменяется. В чертогах Армиды он сладостен, нежен, изобилен; здесь он мужествен, величествен и даже суров.
Те, которые упрекают итальянцев в излишней изнеженности, конечно, забывают трех поэтов: Альфиери – душею римлянина, Данта – зиждителя языка италиянского и Петрарка, который нежность, сладость и постоянное согласие умел сочетать с силою и краткостию.
XII. Петрарка
S'amor non e, che dunque e quel ch'io sento?[40]
Вот что говорит Петрарка, которого одно имя напоминает Лауру, любовь и славу. Он заслужил славу трудами постоянными и пользою, которую принес всему человечеству, как ученый прилежный, неутомимый; он первый восстановил учение латинского языка; он первый занимался критическим разбором древних рукописей как истинный знаток и любитель всего изящного. – Не по одним заслугам в учености имя Петрарки сияет в истории италиянской; он участвовал в распрях народных, был употреблен в важнейших переговорах и посольствах, осыпан милостями императора Римского и наконец от Роберта, короля Неаполитанского, – назван и другом, и величайшим гением. Заметьте, что Роберт был ученейший муж своего времени и предпочитал (это собственные его слова) науки и дарования самой диадеме. Наконец Петрарка сделался бессмертен стихами, которых он сам не уважал[41], – стихами, писанными на языке италиянском или народном наречии. – Итак, славы никто не оспоривает у Петрарки, но многие сомневалися в любви его к Лауре. Многие французские писатели утверждали, что Лаура никогда не существовала, что Петрарка воспевал один призрак, красоту, созданную его воображением, как создана была Дульцинея Сервантовым героем.
Италиянские критики, ревнители славы божественного Петрарки, утвердили существование Лауры; они входили в малейшие подробности ее жизни и на каждый стих Петрарки написали целые страницы толкований. – Сия дань учености дарованию покажется иным излишнею, другим смешною, но мы должны признаться, что только в тех землях, где умеют таким образом уважать отличные дарования, родятся великие авторы. Любители поэзии и чувствительные люди, которые по движениям собственного сердца, пламенного и возвышенного, угадывают сердце поэта и истину его выражений, не будут сомневаться в любви Петрарки к Лауре: каждый стих, каждое слово носит неизгладимую печать любви.
Любовь способна принимать все виды. Она имеет свой особенный характер в Анакреоне, Феокрите, Катулле, Проперции, Овидии, Тибулле и в других древних поэтах. Один сладострастен, другой нежен и так далее. Петрарка, подобно им, испытал все мучения любви и самую ревность; но наслаждения его были духовные. Для него Лаура была нечто невещественное, чистейший дух, излившийся из недр божества и облекшийся в прелести земные. – Древние стихотворцы были идолопоклонниками; они не имели и не могли иметь сих возвышенных и отвлеченных понятий о чистоте душевной, о непорочности, о надежде увидеться в лучшем мире, где нет ничего земного, преходящего, низкого. Они наслаждались и воспевали свои наслаждения; они страдали и описывали ревность, тоску в разлуке или надежду близкого свидания. – Слезы горести или восторга, некоторые обряды идолопоклонства, очарования какой-нибудь волшебницы (любовь всегда суеверна), воспоминание о золотом веке и вечные сожаления о юности, улетающей как призрак, как сон, – вот из чего были составлены любовные поэмы древних, вот почему в их творениях мы видим более движения и лучшее развитие страстей, одним словом, более драматической жизни, нежели в одах Петрарки, – но не более истины.
Тибулл, задумчивый и нежный Тибулл, любил напоминать о смерти своей Делии и Немезиде. «Ты будешь плакать над умирающим Тибуллом; я сожму руку твою хладеющею рукою, о Делия!..»
Те spectem, supreme mihi cum venerit hors,
Те teneam moriens, deficiente manu.[42]
И сии слова драгоценны для сердец чувствительных! Но после смерти всему конец для поэта; самый Элизий не есть верное жилище. Каждый поэт переделывал его по-своему и переносил туда грубые, земные наслаждения. Петрарка напротив того: он надеется увидеть Лауру в лоне божества, посреди ангелов и святых; ибо Лаура его есть ангел непорочности; самая смерть ее – торжество жизни над смертию. «Она погасла, как лампада, – говорит стихотворец, – смерть не обезобразила ее прелестей; нет! не смертная бледность покрыла ее лице: белизна его подобилась снегу, медленно падающему на прекрасный холм в безветренную погоду. Она покоилась, как человек по совершении великих трудов: и это называют смертию слепые человеки!»
Петрарка девять лет оплакивал кончину Лауры. Смерть красавицы не истребила его страсти; напротив того, она дала новую пищу его слезам, новые цветы его дарованию: гимны поэта сделались божественными. Никакая земная мысль не помрачала его печали. Горесть его была вечная, горесть християнина и любовника. Он жил в небесах: там был его ум, его сердце, все воспоминания; там была его Лаура! – Стихи Петрарки, сии гимны на смерть его возлюбленной, не должно переводить ни на какой язык; ибо ни один язык не может выразить постоянной сладости тосканского и особенной сладости музы Петрарковой. Но я желаю оправдать поэта, которого часто критика (отдавая, впрочем, похвалу гармонии стихов его) ставит наравне с обыкновенными писателями по части изобретения и мыслей. В прозе остаются одни мысли:
«Исчезла твоя слава, мир неблагодарный! и ты сего не видишь, не чувствуешь. Ты не достойна была знать ее, земля неблагодарная! ты не достойна быть попираема ее священными стопами! Прекрасная душа ее преселилась на небо. Но я, несчастный! я не могу любить без нее ни смертной жизни, ни самого себя! Лаура! тебя призываю со слезами! слезы – последнее мое утешение; они меня подкрепляют в горести. Увы! в землю превратились ее прелести; они были здесь залогом красоты небесной и наслаждений райских. Там ее невидимый образ: здесь покрывало, затемнявшее его сияние. Она облечется снова и навеки в красоту небесную, которая без сравнения превосходит земную. Ее образ является мне одному (ибо кто мог обожать ее, как я?), он является и прелестнее, и светлее. Божественный образ ее, милое имя, которое отзывается столь сладостно в моем сердце, – вы единственные опоры слабой жизни моей… Но когда минутное заблуждение исчезает, когда я вспомню, что лишился надежды моей в самом цвете и сиянии: любовь! ты знаешь, что со мною тогда бывает, знает и она, та, которая приближилась к божественной истине… Я страдаю; а она из жилища вечной жизни с гордою улыбкою презрения взирает на земное одеяние свое, здесь оставленное. Она о тебе одном вздыхает и умоляет тебя не затмить сияния славы ее, тобою на земле распространенного; да будет глас твоих песней еще звучнее, еще сладостнее, если сладостны и драгоценны были очи ее твоему сердцу!»
Древность ничего не может представить нам подобного. Горесть Петрарки услаждается мыслию о бессмертии души, строгою мыслию, которая одна в силах искоренить страсти земные; но поэзия не теряет своих красок. Стихотворец умел сочетать землю и небо; он заставил Лауру заботиться о славе земной, единственном сокровище, которое осталось в руках ее друга, осиротелого на земле. Иначе плачет лад урною любовницы древний поэт; иначе Овидий сетует о кончине Тибулла: ибо все понятия древних о душе, о бессмертии были неопределенны. – Петрарка, пораженный ужасною вестию о кончине Лауры, написал несколько строк на заглавном листе Вергилия, который весь наполнен был его замечаниями: ибо Петрарка читал Вергилия и учил наизусть беспрестанно. Сия рукопись, драгоценный остаток двух великих людей, хранилась в Амброзианской библиотеке, а ныне, если не ошибаюсь, находится в Париже. Простота немногих строк, начертанных в глубокой горести, прелестна и стоит лучшего гимна. Из них-то можно видеть, что Петрарка не сочинял свою страсть и что стихи его были только слабым воспоминанием того, что он чувствовал.
Вот сии строки: «Лаура, славная по качествам души своей и столь долго мною прославляемая, предстала в первый раз моим глазам в начале моего юношеского возраста, в 1327 году 6 апреля, в церкви св. Клары, в Авиньоне, в первом часу пополудни. И в том же самом городе, в том же месяце, 6 числа, в первом часу, 1348 года, сия небесная лампада потухла, когда я находился в Вероне, не ведая ничего о моем несчастии. – В Парме узнал я эту плачевную новость чрез письмо друга моего Лудовика, того же года, в мае, поутру. Ее чистейшее, ее прелестное тело было положено в самый день ее смерти, в церкви кармелитов. Я уверен, что ее душа возвратилась на небо, откуда она пришла, так как Сципионова, по словам Сенеки».
Петрарка любил; но он чувствовал всю суетность своей страсти и с нею боролся не однажды. Любовь к Лауре и любовь к славе под конец жизни его слились в одно. Любовь к славе, по словам одного русского писателя, есть последняя страсть, занимающая великую душу. – Поэмы: Триумф Любви – Непорочности – Смерти – Божества, в которых и самый снисходительный критик найдет множество несообразностей и оскорблений вкуса, заключают однако же в себе неувядаемые красоты слога, выражения и особенно мыслей. В них-то стихотворец описывает все мучения любви, которой мир, как тирану, приносит беспрестанные жертвы». «Я знаю, – говорит он, – как непостоянна и пременчива жизнь любовников. Они то робки, то предприимчивы. Немного радостей награждают их за беспрерывные мучения. Знаю их нравы, их воздыхания, их песни, прерывные разговоры, внезапное молчание, краткий смех и вечные слезы. Любовь подобна сладкому меду, распущенному в соку полынном»[43]. Сию последнюю мысль Тасс повторил в своей поэме. Певец Иерусалима испытал все мучения любви.
Во времена Петрарковы, столь смежные с временами рыцарства, любовь не утратила еще своего владычества над людьми всех состояний. Во Франции, от короля до простого воина, каждый имел свою даму: «Madame et St. Denis!»[44] восклицали французские рыцари в пылу сражений и совершали неимоверные подвиги. Рыцарь Сир де Флеранж, водружая знамя на стене крепости, взятой приступом, кричал свои товарищам: «Ах! если бы видела красавица своего рыцаря!» Трубадуры воспевали красоту; за ними и все поэты (не исключая важного и мрачного Данте, остроумного и веселого Боккаччио), все прославляли своих красавиц, и имена их остались в памяти муз. История Парнаса италиянского есть история любви. В одном из своих «Триумфов» Петрарка исчисляет великих мужей, древних и новейших, которые все учинились жертвами страсти. Конечно, здравый вкус негодует на сочетание имен Давида и Соломона с именами Тибулла и Проперция; но некоторые места сей поэмы имеют особенную прелесть, а более всего те, в которых стихотворец исчисляет своих друзей в плену у сурового бога.
«Я увидел Вергилия, – говорит он, – и с ним Овидия, Катулла и Проперция, которые все столь пламенно воспевали любовь, – и, наконец, нежного Тибулла. Юная гречанка (Сафо) шествовала рядом с возвышенными певцами, воспевая сладкие гимны. Бросив взоры на окрестные места, я увидел на цветущей зеленой долине толпу, рассуждающую о любви. Вот Данте с Беатриксою! вот Сельважиа с Чино! и проч. и проч… Но теперь я не могу сокрыть моей горести: я увидел друзей моих, и посреди их Томасса, украшение Болонии, Томасса, которого прах истлевает на земле мессинской. О минутные радости! горестная жизнь! кто отнял у меня так рано мое сокровище, моего друга, без которого я не мог дышать? Где он теперь находится? – Прежде он был со мною неразлучен… Жизнь смертных, горестная жизнь! ты не что иное, как сон больного страдальца, пустая басня романа! – уклонясь в сторону от прямого пути, я встретил моего Сократа и Лелия. С ними желал бы я долее шествовать. Какая чета друзей! Ни проза, ни стихи мои не могут их достойно прославить; их нагая добродетель и без песней муз заслуживает почтение мира. С ними я похитил слишком рано лавр, который доселе украшает мою главу, в воспоминание той, которую обожаю!» – Лавр (lauro) напоминает имя Лауры, и потому был вдвое драгоценен сердцу поэта. По смерти славного Колонны и Лауры стихотворец воскликнул:
Rotta e l'alta colonna, e l'verde lauro![45]
Мы заметили уже, что неумеренная любовь к славе равнялась или спорила с любовью к Лауре в пламенной душе Петрарки. Одна чистейшая набожность и возвышенные мысли о бессмертии души могли уменьшать их силу, и то временно; но искоренить совершенно не имели власти. С каким чистосердечным сокрушением описывает он борьбу религии с любовию к славе! В каждом слове виден християнин, который знает, что ничто земное ему принадлежать не может; что все труды и усилия человека напрасны, что слава земная исчезает, как след облака на небе: знает твердо, убежден в сей истине, и все не престает жертвовать своей страсти! «Мой ум занят сладкою и горестною мыслию, (говорит он) мыслию, которая меня утруждает и исполняет надеждою мятежное сердце. Когда воображу себе сияние славы, то не чувствую ни хлада зимы, ни лучей солнечных, забываю страшную бледность моего чела и самые недуги. Напрасно желаю умертвить сию мысль; она снова и сильнее рождается в моем сердце. Она встретила меня в пеленах младенчества, день ото дня со мною возрастала, и страшусь, чтобы со мною не заключилась в могиле. Но к чему послужат мне сии льстивые желания, когда моя душа отделится от бренного тела? После кончины моей если и вся вселенная будет обо мне говорить… суета! суета! Один миг разрушает все труды наши. Так! я желал бы обнять истину и забыть навеки суетную тень славы!»
И самый слог Петрарки сообразно с предметами изменяется: важность мыслей в «Триумфе» Смерти и Божества дают слогу особенную силу, возвышенность и краткость. Часто два или три слова заключают в себе мысль или глубокое чувство. Ода, в которой поэт обращается к Риензи (так полагает Вольтер, а другие критики утверждают, что сия ода писана не к Риензи, а к Колонне), сия ода, в которой он умоляет народного трибуна священными именами Сципионов и Брутов расторгнуть оковы Рима и поставить его на древнюю степень сияния и славы, напоминает нам прекрасные оды Горация. Она исполнена древнего вкуса и того величия, которое италиянцы, чувствительные ко всему изящному, называют Grandiose в поэзии, в ваянии, в живописи, во всех искусствах. Рим был страстию Петрарки. Он не мог простить папе перенесение трона в Авиньон, и вот в каких словах изливает свое негодование перед защитником прав народных; вот каким образом взывает к воскресителю столицы мира:
«Сии древние стены, пред коими мир благоговеет и смертные страшатся, когда обращают вспять взоры на давно минувшие веки, сии камни надгробные, под коими истлевает прах великих людей, славных даже до разрушения мира: все сии развалины древнего величия надеются воскреснуть тобою. – О великие Сципионы! о верный Брут! с какою радостию познаете вы благодеяние нового героя! с каким веселием и ты, Фабриций, узнаешь весть сию! Ты скажешь: мой Рим еще будет прекрасен!»
Надежды Петрарки не сбылись. Но любители изящной поэзии знают наизусть прекрасные стихи любовника Лауры, обожателя древнего Рима и древней свободы. Ни любовь, ни мелкие выгоды самолюбия, ни опасность говорить истину в смутные времена междуусобия – ничто не могло ослабить в нем любви к Риму, к древнему отечеству добродетелей и муз, ему драгоценных: ибо ничто не могло потушить любви к изящному и к истине в его сердце. Узнав неистовые поступки Риензи, с чистосердечною гордостию, достойною лучших времен Рима, Петрарка писал к нему: «Я хотел прославить тебя; страшись теперь, чтобы я не превратил моей похвалы в жестокую сатиру!» Но все угрозы и советы Петрарки были напрасны. Свобода, дарованная Риму исступленным трибуном, походила на свободу Робеспиерову: началась убийствами, кончилась тиранством.
Все знают, что Петрарка воспользовался песнями сицилиянских поэтов и трубадуров счастливого Прованса, которые много заняли у мавров, народа образованного, гостеприимного, учтивого, ученого и одаренного самым блестящим воображением. От них он заимствовал игру слов, изысканные выражения, отвлеченные мысли и, наконец, излишнее употребление аллегории; но сии самые недостатки дают какую-то особенную оригинальность его сонетам и прелесть чудесную его неподражаемым одам, которые ни на какой язык перевести невозможно. Слога нельзя присвоить, говорит Бюффон, сей исполин в искусстве писать: и особенно слога Петрарки. – Любовь к цветам господствовала на Востоке. До сих пор арабские и персидские стихотворцы беспрестанно сравнивают красоту с цветами и цветы с красотою. Цветы играют большую ролю у любовников на Востоке. Рождающаяся любовь, ревность, надежда, одним словом, вся суетная и прелестная история любви изъясняется посредством цветов. Трубадуры также любили воспевать цветы, а за ними и Петрарка. Желаете ли видеть, каким образом он воспользовался цветами? Еще раз повторяю: я удерживаю одну тень слога живого, исполненного неги, гармонии и этого сердечного излияния, которое только можно чувствовать, а не описывать. Кстати о цветах: слог Петрарки можно сравнить с сим чувствительным цветком, который вянет от прикосновения.
«Если глаза мои остановятся на розах белых и пурпуровых, собранных в золотом сосуде рукою прелестной девицы, тогда мне кажется, что вижу лице той, которая все чудеса природы собою затмевает. Я вижу белокурые локоны ее, по лилейной шее развеянные, белизною и самое молоко затмевающей; я вижу сии ланиты, сладостным и тихим румянцем горящие! Но когда легкое дыхание зефира начинает колебать на долине цветочки желтые и белые, тогда вспоминаю невольно и место, и первый день, в который увидел Лауру с развеянными власами по воздуху, и вспоминаю с горестию начало моей пламенной страсти».