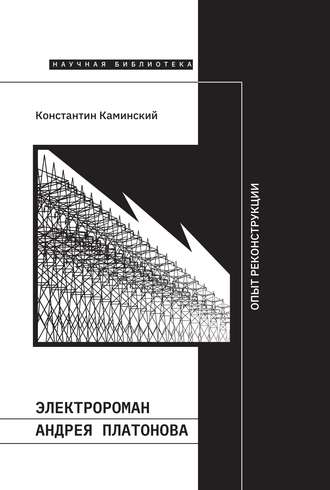
Константин Каминский
Электророман Андрея Платонова. Опыт реконструкции
Бросается в глаза, что читатель поначалу ничего не может себе представить в качестве безымянной машины Маркуна. Скорее имеется в виду абстрактный механический принцип передачи силы и энергии. Вместе с тем описание принципа действия машины представляет собой своего рода загадку. Валерий Вьюгин в своих работах подчеркнул влияние, которое жанр фольклорной загадки оказал на поэтику Платонова152. Любопытно, что Виктор Шкловский привлекает жанр загадки для иллюстрации приема отстранения153. В «Маркуне» загадка технологического сказа разрешается в следующем абзаце:
Маркун нагнулся над чертежом. Его турбина имела шесть систем спиралей, последовательно сцепленных и последовательно возрастающих по мощности. Следовательно, ускорение будет шестикратным. Вода же будет так расходоваться, что будто работает одна последняя, шестая спираль; это потому, что другие пять спиралей будут работать одной и той же водой154.
В основе загадочной машины Маркуна совершенно очевидно лежит механический принцип Архимедова винта, устройства подачи воды на более высокий уровень155. Характерно, что оба механических принципа (рычаг и винт), которые описывают способ действия машины Маркуна, служат переносу силы и преодолению земного тяготения. Таким образом, машина Маркуна способствует в буквальном смысле преодолению механического и энергетического сопротивления и переустройству поверхности земли.
И огнем прошла неожиданная мысль:
– Что если бы найти металл с бесконечной способностью прочного сопротивления, бесконечной крепости. Но такой металл есть: он просто один из видов мировой энергии, вылитый в форму противодействия. Это вытекает из общего закона бесконечных возможностей сил и их форм. Но тогда моя машина – пасть, в которой может исчезнуть вся вселенная в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я пропущу через спирали мотора. Я построю турбину с квадратным, кубическим возрастанием мощности, я спущу в жерло моей машины южный теплый океан и перекачаю его на полюсы. Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности, упоение своим всемогуществом156.
Тут впервые в прозе Платонова появляется космогоническая риторика Пролеткульта, ранее используемая им в публицистике. Игорь Чубаров в своей каталогизации «литературных» машин Платонова указал на то, что платоновские метафоры машин постоянно обращены на переустройство мира посредством преобразования (литературного) языка157. Тут же представление об этой автопоэтической машине вызывает у Маркуна мегаломанические фантазии господства над миром, которые обусловлены медийно-семантическими эффектами (литературного) письма: посредством того солипсистского опыта самоконфронтации и индивидуации, которому подвергаются пишущие и читающие (Онг) и чья высокая степень герменевтической открытости в конечном счете несовместима с коллективистским, социалистическим этосом158.
Как только Маркун переходит от планирования своей машины к ее пуску в производство во второй части рассказа, исчезают мотивы письменности вместе с зимним ландшафтом и одиночеством героя. Такое развитие коннотируется метапоэтически как преодоление медиальности и открытие социальной непосредственности. Маркун обретает себя в эмоциональной коммуникации и социальных аффектах: сострадании (к слепому ребенку соседки) и вожделении (к увиденной издали девушке).
Раз он полдня сгружал на станции дрова из вагона, а на заработанные деньги купил красную погремушку ребенку-слепцу, который жил у соседей в сарае, куда запирала его мать, чтобы он не убежал и не убился, когда она уходила на работу. <…> Чуть была видна избушка лесного сторожа. К ней подходила девушка и маячила в синем сумраке красноватой юбкой. Она махала рукой. Должно быть, кликала кого из лесу, кричала мягкою грудью, ласково и протяжно, и улыбалась159.
Отчетливее всего преображение образа Маркуна становится, если его зимние фантазии о всемогущей машине («Пусть все цветет, во всем дрожит радость бесконечности, упоение своим всемогуществом») сравнить с его весенними чувствами: «Сердце горело любовью, он худел и гас от восторга быть ниже и хуже каждого человека»160. Эти маниакальные психологические качели между самовозвышением и самоуничижением указывают на внутреннее расщепление в самовосприятии героя. Маркун – шизоидный субъект. Оба агрегатных состояния конституирования его субъективности – всемогущество и бессилие (омнипотентность / импотентность) – функционируют при этом как проводящие средства для токов вожделения. Машина, которую изобретает Маркун, оказывается «машиной желания» в духе шизоанализа Жиля Делёза и Феликса Гваттари.
Эта машина способна высвободить его из репрессивных структур семьи (Маркун посвящает себя конструированию машины, чтобы блокировать сострадание к больному брату) и дает ему возможность присоединения к социальной машине. Его страстное желание создает в качестве продуктивной силы машину желания любви к дальнему и господства над миром, которая в свою очередь проецирует реальное, эротическое желание любви к ближнему и его подчинения161.
Воображаемая машина Маркуна посредничает между инстинктом игры как модусом индивидуации и развертыванием его эротического инстинкта как модуса социализации. Но в конечном счете, и это особенно показательно, поэзия машин оказывается провальной для механизмов конституирования субъективности Маркуна, когда он устраивает пробный запуск своей машины.
Загудел гудок. Маркун вспомнил о труде, о работе до крови, о борьбе и неутомимости, о гордой человеческой жизни, которой полна ликующая земля, о громе машин и потоках электричества. Он зачерпнул ведро воды и вылил его в воронку над турбиной. Он был спокоен и уверен. Отпустил кран – и машина рванулась и загремела. Вокруг нее повисло неподвижное кольцо отработанной выбрасываемой воды. <…> Машина увеличивала ход. Мощь ее росла и, не находя сопротивления, уходила в скорость. Лопнула нижняя спираль, с визгом оторвался кусок трубы и, вращаясь, ударил в деревянную стенку сарая, пробил ее и вылетел на двор. Турбина выскочила из подшипника и зарылась в землю. Маркун вышел за дверь и остановился. Лозина низко опустила голые хворостины и шевелила ими по ветру. Загудел третий гудок. Второго Маркун не слыхал162.
Здесь используется прием, уже испытанный в «Очередном»: наррация через акустические сигналы и поломка оборудования как кульминация развития действия. Правда, на сей раз этот прием не помещен в коллективный процесс производства, а инсценирован как индивидуальный неудачный эксперимент.
«Маркун» – экспериментальный текст. Нарративный эксперимент ставит целью придумать повествовательную технику, которая сможет примирить в прозе кардинальные противоречия поэтики Пролеткульта и собственной платоновской публицистики. Маркун оказывается шизоидным героем как некое поле битвы, на котором вступают в спор философские, эстетические и социальные противоположности, и это можно отобразить набором следующих бинарных оппозиций:
Любовь к ближнему vs. любовь к дальнему
Устность vs. письменность
Сказ vs. внутренние монологи и технический язык
Коллективность vs. индивидуальность
Пролетариат vs. техническая интеллигенция
Если рассматривать шизоидную структуру рассказа, надо учитывать, что «Маркун» предназначался для «Кузницы» и закреплял не только основные метафоры Пролеткульта, как полагали Томас Сейфрид и за ним другие исследователи, но и индивидуалистские, антифутуристические тенденции. Так Маркун – в отличие от чисто пролетарского, коллективистского рассказчика из «Очередного» – является изначально литературной фигурой, данной через аукториальное повествование. Его индивидуализм изобретателя, мечущийся между любовью к ближнему и любовью к дальнему, соответствует пуристской концепции «Кузницы» в большей мере, чем «классическому» коллективному субъекту Пролеткульта. То, что идеология (в смысле миропонимания) Маркуна неоднозначна и колеблется между крайними полюсами, обусловлено прежде всего тем, что культурно-теоретические демаркационные линии между Пролеткультом и «Кузницей» не были закреплены однозначно. Маркун – не сформированный по заданным образцам «литературный» персонаж, а субъект, взыскующий истины и познания. Познание, к которому он приходит после неудачного эксперимента, кажется на первый взгляд в высшей степени загадочным и двусмысленным.
Я оттого не сделал ничего раньше, подумал Маркун, что загораживал собою мир, любил себя. Теперь я узнал, что я – ничто, и весь свет открылся мне, я увидел весь мир, никто не загораживает мне его, потому что я уничтожил, растворил себя в нем, и тем победил. Только сейчас я начал жить. Только теперь я стал миром. Я первый, кто осмелился163.
Это напряжение между всемогуществом и бессилием вместе с диалектическим снятием (или растворением «Я» в «мире» – субъективности в объективности = объективированию субъективности), показанное в заключительных строках «Маркуна», представляет собой важный концепт в ранней прозе Платонова и влияет на его своеобразную технику повествования, которую Роберт Ходель определяет как персонализацию повествовательного сообщения. «Тем самым позиции рассказчика и персонажей грозят взаимно раствориться, наррация проявляет черты стилизации под сказ, не перенимая характерной для сказа дистанции между автором и героем или автором и рассказчиком. Аукториальная позиция оказывается даже не колеблющейся и неопределенной, а неустойчивой, переменной. <…> И надо исходить не из персонализации речи рассказчика в смысле рассказа о пережитом, а из аукториализации речи персонажей»164.
Эта аукториализация речи персонажей делает рассказчика Апалитыча героем, а героя Маркуна рассказчиком своего «Я». Неустойчивая или переменная повествовательная перспектива, которую можно наблюдать в поздней прозе Платонова, берет свое начало в мировоззренческой и повествовательно-технической инициации героя в ранней прозе Платонова, которая сопутствует имманентному расщеплению рассказывающего и рассказанного субъекта и подчеркивает то шизоидное, колеблющееся между фантазиями всемогущества и бессилия самовосприятие и персональную речь характеров.
В рассказе «Жажда нищего», написанном в начале 1921 года, эта экспериментальная техника повествования развивается дальше и примыкает к электрическим мотивам ранней публицистики. Тема электрификации, речь рассказчика с элементами сказа и речь персонажей с шизоидными элементами впервые интегрируются в этом тексте в нарративную схему.
Поэтому «Жажду нищего» надо рассматривать как первую главу Электроромана и подробно исследовать в этом качестве.
2.2. Имплицитный автор как пережиток («Жажда нищего»)
Рассказ «Жажда нищего (Видениe истории)» вышел 1 января 1921 года в газете «Воронежская коммуна» (через три дня после доклада Платонова об электрификации). Этот рассказ является первой главой Электроромана, основой оригинальной электропоэтики Платонова. Более того: именно с этого текста Платонов начинает почти на ощупь приближаться к форме сложной, большой прозы и применять комплексные приемы сюжетосложения. В рассказах, обсуждаемых выше, Платонов экспериментировал с простыми повествовательными перспективами: ориентированная на устность повествовательная перспектива Апалитыча и повествовательная перспектива Маркуна стоят в одноименных рассказах каждая за себя и образуют автономные модули. В «Жажде нищего» эти повествовательные модули отделяются от персонажей, перемещаются в универсальное пространство письма, производя тем самым синтез повествовательной техники, вдохновившей развитие литературного стиля Платонова.
2.2.1. Пережиток как повествовательная инстанция
Уже начало текста требует от читателя рецептивного усилия абстракции – время рассказа и повествуемое время стоят в парадоксальной связи друг с другом: «Был какой-то очень дальний ясный, прозрачный век. В нем было спокойствие и тишина»165. «Тихий век», которым начинается рассказ, вызывает состояние эпического спокойствия; обычно так начинается сказка, и эпическое спокойствие нарушается появлением сказочных героев166. Традиционный зачин сказки о прошедшем времени – «жили-были» – перечеркивается намеренным устремлением в «будущий век». Этот парадоксальный временной образ Михаил Бахтин определил как «историческую инверсию» – форму повествуемого времени, которой в бахтинской концепции за счет будущего обогощается настоящее и в особенности прошлое, тем самым опустошая и разреживая будущее167.
В платоновской философской притче будущее абстрактно и «обескровлено» из‐за исторической инверсии рассказа. Будущее (повествуемое время), о котором рассказывается, в начале истории уже есть прошлое (время рассказа). Аукториальный голос рассказчика вначале вещает о будущем «посткоммунистическом» обществе в «тихом веке сознания и света науки» и вводит абстрактного протагониста: «Большого Одного».
Века похоронили древнее человечество чувств и красоты и родили человечество сознания и истины. Это уже не было человечество в виде системы личностей, это не был и коллектив спаявшихся людей самыми выгодными своими гранями один к другому, так что получилась одна цельная точная математическая фигура. На земле, в том тихом веке сознания, жил кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое человечество. Большой Один не имел ни лица, никаких органов и никакого образа – он был как светящаяся, прозрачная, изумрудная, глубокая точка на самом дне вселенной – на земле. С виду он был очень мал, но почему-то был большой. Это была сила сознания, окончательно выкристаллизовавшаяся чистая жизнь. Почти чистая, почти совершенная была эта жизнь горящей точки сознания, но не до конца. Потому что в ней был я – Пережиток168.
Чистое сознание (как прозрачная метафора чистого разума) субъективируется и конкретизируется через имя «Большой Один» и тут же абстрагируется через дематериализованное фигуративное описание (ни лица, ни органов, ни формы) и объективируется как некое энергетическое поле.
Парадоксальный образ Большого Одного акцентируется в лукавом тоне фольклорной загадки: «С виду он был очень мал, но почему-то был большой»169. Парадоксальность чистого разума подчеркивается эксплицитным изъяном (почти чистый, почти совершенный) и детерминируется эксплицитной субъективностью голоса рассказчика, который по такому случаю прокрадывается мимо протагониста (Большого Одного) и узурпирует нарратив как повествование от первого лица. Рассказчик идентифицирует себя как Пережиток, как антагонист, который стоит в конкуренции с Большим Одним.
На пути к покою у Большого Одного оставался один только я – это было страшно и прекрасно. Я был Пережиток, древний темный зов назад, мечущаяся злая сила, а Он был Большой и был Сознанием – самим светом, самою истиной, ибо когда сознание близко к покою, значит, оно обладает истиной. Но почему я, темная, безымянная сила, скрюченный палец воюющей страсти, почему я еще цел и не уничтожен мыслью? Это было единственной тайной мира, другие давно сгорели в борьбе с сознанием170.
Напряжение между Большим Одним и Пережитком разыгрывается на уровне философских категорий: кантовское «трансцендентальное самосознание» вступает здесь в спор с шопенгауэровской «неосознанной космической волей»171.
Перенесенная на уровень повествовательных категорий, выявляется следующая схема дискурсивных полей, репрезентированных в Большом Одном и в Пережитке:

Смутным остается при этом отношение между субъектом и объектом. Правда, чувственная страстность (Пережитка) в изложении Шопенгауэра относится как объект к субъекту чистого рассудка (Большого Одного). Тем не менее в платоновской «Новогодней фантазии» (альтернативное название «Жажды нищего») объект учреждает себя как субъективная повествовательная инстанция. После того как аукториальный голос рассказчика оказался трансцендирован в рассказ от первого лица, автореференциальное саморазоблачение рассказчика завершается вопросом о причине собственного существования: «Почему я еще цел и не уничтожен мыслью?» – и дает на это ответ: «Это было единственной тайной мира, другие давно сгорели в борьбе с сознанием»172.
Когда рассказывающий Пережиток определяет себя как темную тайну, это последний шаг от объективного аукториального голоса рассказчика к рассказу от первого лица субъективных чувств, прежде всего страха, который заряжен медиальной метафорикой восприятия – тоской по теплым, шумным чувствам в холодном, тихом сознании.
Мне было страшно от тишины, я знал, что ничего не знаю и живу в том, кто знает все. И я кричал от ужаса каменным голосом <…> Я мутил глубь сознания, но тот Большой, в котором я был, молчал и терпел. И мне становилось все страшнее и страшнее. Мне хотелось чего-то теплого, горячего и неизвестного, мне хотелось ощущения чего-нибудь родного, такого же, как я, который был бы не больше меня173.
Этот пассаж проясняет, что сознание и чувство не противостоят друг другу, но что рассказывающий Пережиток инкорпорирован в Большом Одном как его подсознание и из этого включенного положения противится стремлению чистого разума к совершенству. Повествовательный голос (бессознательное) перемещается в героя (сознание). Другими (шопенгауэровскими) словами, провозглашается обратная привязка интеллектуального мировоззрения к чувствительности, что в свою очередь означает, что инкорпорированный Пережиток в равной мере обусловливает и исключает Большого Одного как посредническую инстанцию (медиум) восприятия реальности, поскольку препятствует абсолютной чистоте сознания.
Абстрагированный от мира чувств рассказывающий Пережиток вырабатывает из своего страха и тоски выраженное влечение к смерти: «Я хотел гибели, скорой гибели, и еще больше хотел чего-нибудь темного и теплого, громкого и далекого»174 – и отмирает. Из этой позиции отмирающего Пережитка возникает намеченное в названии рассказа «Видение истории» – внутреннее действие «Жажды нищего», тогда как антагонизм между Большим Одним и Пережитком учреждается как обрамляющее повествование.
И я начал погибать, потому что начал видеть дальние чудесные вещи, а разное шептание и желание теплоты во мне прекратилось. Я увидел одно видение прошлого и стал другим от радости. Я увидел бой еще раннего слабого сознания с тайной. (Может, это мне показал Большой, в котором я был, – я не думал тогда о том. А я уже начал чуть думать! Стал плохим Пережитком.)175
Переход от обрамляющего повествования к внутреннему действию сигнализируется медийно-семантической переменой как переключение от устности интимного ощущения к визуальности дистанцированного наблюдения. Видение Пережитка моделируется при этом как вытесненное сознание истории Большого Одного. Одновременно процесс умирания Пережитка задерживается из‐за видения. Он выживает за счет повествовательного времени. Этот термин – «Überlebsel» – впервые появляется в немецком переводе влиятельной этнологической монографии Эдварда Тэйлора «Первобытная культура» (1871), чтобы лучше передать значение центрального понятия Тэйлора «survivor». Под пережитком Тэйлор понимает буквальное выживание реликтовых обычаев и системы веры в условиях прогрессивного культурного развития176. В частности, загадка как форма фольклорной передачи знаний подходит для изучения исчезнувших культурных практик и представляет собой «пережиток» в чистой форме177.
Понятие «survivor» в России получило повествовательно-теоретическую актуализацию как «пережиток» в работах Александра Веселовского по исторической поэтике, которые стали определяющими для развития формалистских теорий Михаила Бахтина, Виктора Шкловского и Владимира Проппа. Внутри концепции сказки Владимира Проппа, которая связывает формалистскую теорию повествования и марксистскую теорию истории, пережитку отводится центральная роль. Сказку как жанр и повествовательную форму можно понимать как энциклопедию пережитков художественных и нарративных приемов, с одной стороны, и социальных институтов, с другой178. Тем самым пережиток становится основополагающим поэтическим приемом сказки, которая через передачу рудиментарных ритуалов и мифов выявляет художественные повествовательные формы их переоценки и преодоления179. В частности, распространенный в структуре сказки мотив превращения Веселовский понимает как самореференциальное перформативное выделение повествовательно-технического пережитка180. Постоянство и трансформация тотемистских представлений, которые принимает в расчет Веселовский, указывают опять же на фрейдистские психоаналитические концепции вытеснения181.
Повествующий пережиток в платоновской философской притче наследует, таким образом, популярные этнологические, поэтологические и психоаналитические теоретические конструкты, которые концентрируются на локализации, консервации и динамике архаических представлений.
Кроме того, русское слово «пережиток» содержит в себе и другие взаимосвязи значений. В зависимости от контекста глагол «переживать» означает «испытывать» или «тревожиться»; «переживание» означает также «ощущение» или «чувствительность» в традиции русского сентиментализма. Рассказывающий Пережиток у Платонова, таким образом, вдвойне коннотирован – как выживание и познание, и сводится к вопросу: выживет ли инстинкт переживания в эпоху чистого сознания? Или иначе: насколько рациональный рассудок обусловлен эмоциональным восприятием? Ибо общее в «пережитке» у Тэйлора, Фрейда и Веселовского – имманентный инстинкт повествования, вид вытесненной потребности в сообщении форм культурного предания.
Рассказанное время видения Пережитка – прошлое будущего – представляет собой относительно исторической инверсии обрамляющего повествования возврат к фольклорному времени и фольклорному образцу повествования. В ближайшем будущем размещается предыстория далекого будущего. Знаменательно, что вводится этот пересказ видения вместе с описанием глобального ландшафта, которое связывает рассказанное время видения с завершенной электрификацией всего мира.
Еще были города, и в небе день и ночь из накаленных электромагнитных потоков горела звезда в память побед человечества над природой. <…> На Северном полюсе горел до неба столб белого пламени в память электрификации мира182.
Таким образом, Платонов ставит себе цель этой философской притчей развить модус описания электрической эпохи, сформулировать технологические, общественные и утопические импликации электрификации и трансформировать их как бы в повествовательный образец фольклорного времени. В этой форме времени рассказа природа и борьба человека против природы еще не «деградировали» в описание ландшафта, а образуют ядро действия и обеспечивают единство времени рассказа183. Коллективная борьба человека против природы вводится в первой же фразе видения Пережитка как центральная тема («память побед человечества над природой») и утверждается в описании рассказанного времени.
Тот век тоже был тихий: только что была кончена страшная борьба за одну истину и настал перерыв во вражде человечества и природы. Но перерыв был скучением сил для нового удара по Тайнам. Ученый коллектив с инженером Электроном в центре работал по общественному заданию над увеличением нагрузки материи током через внедрение его с поверхности в глубь молекул184.
Этот пассаж содержит две загадки. Во-первых, почему Тайна пишется с большой буквы? И во-вторых, кто такой инженер Электрон?


