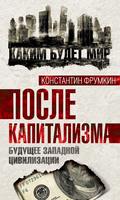Константин Фрумкин
Сюжет в драматургии. От античности до 1960-х годов
1.8. Замкнутость драматического космоса
Требование явности и прозрачности причинно-следственной связи событий в сюжете закономерно породило другой, немаловажный, эстетический принцип: очень многие теоретики драмы говорили о том, что мир, созданный драмой, должен быть изолированным или «замкнутым». «Мир драмы – это строго замкнутый круг, который не должны нарушать никакие посторонние нити иных, вне его стоящих событий» – писал Герман Геттнер[57].
По сути дела, принцип замкнутости включает в себя два разных требования, но вытекающих из одной и той же психологической, когнитивной и эстетической склонности: желания точно отслеживать все причинно-следственные связи, входящие в состав сюжета.
Первое требование, которое вытекает из этого желания, – требование устранить из пьесы все лишнее, то есть все, что не участвует существенным образом в действии.
Прямым следствием этого принципа замкнутости было знаменитое требование Станиславского, что ружье, висящее в первом акте на сцене, в третьем должно выстрелить. В реальной жизни нас окружают мелочи, на которые мы не обращаем внимание и которые многие годы могут не оказывать серьезного влияния на наши поступки. В драме таких мелочей не должно быть: не должно быть ружей, которые не стреляют, посторонних телефонных звонков и случайных разговоров. Логическая цепь сюжета должна быть очищена. Перед нами в драме должна предстать вырезанная из многообразной и многосторонней реальности цепочка четко связанных друг с другом событий, по возможности изолированная от других подобных цепочек.
Однако полная изоляция одной сюжетной линии от окружающей жизни невозможна, и тогда в действие вступает второе требование. Принцип замкнутости драмы предполагает также, что все, или хотя бы большинство факторов, существенно влияющих на ход действия, должны сообщаться читателю и зрителю вначале, в первой половине пьесы – так же, как всегда вначале, а не в конце сообщаются правила игры или исходные данные требующей решения задачи. Если, с одной стороны, ружье, которое висит в первом акте, обязательно должно выстрелить, то, с другой стороны, ружье, которое выстрелит, уже должно висеть в первом акте. В частности, Роберт Гессен, требуя, чтобы в пьесе все готовилось заранее, чтобы в финале «гром не грянул среди ясного неба», ставит в пример Сарду, вводящего в действие в начале своих пьес вроде бы второстепенных персонажей, которым в конце суждено сыграть роковую роль в судьбе главных героев[58].
Любопытно, что требование замкнутости сюжета фактически входит в противоречие с требованием реалистичности и «объемности» создаваемых драматургами персонажей. Как говорил В. Сахновский-Панкеев – «Сразу же обнажить все связи с прошлым – значит обескровить драму. Герои, вся предыстория которых укладывается в рамки экспозиции, могут лишь более или менее удачными схемами»[59]. Это противоречие отражает общее противоречие сюжета как способа постижение реальности. Всякое рассмотрение локального региона мира как некоего замкнутой в самой себе целостности противоречит тому, что мир целостен, и что в нем нет изолированных частей, и любой регион находится в неисчислимом количестве связей с остальными. Фактически, Сахновский-Панкеев говорит, что изображать предмет реалистически – значит изображать его в контексте, в сети связей с окружающим космосом. Однако такое изображение противоречит самой идее сюжета. Драма, таким образом, обречена на некоторую степень схематичности, на отклонение от правдоподобия – ради того, чтобы быть презентативной, по крайней мере, по отношению к своему собственному содержанию, чтобы умещать все значимые причинно-следственные связи в рамки сюжета.
В трудах по теории драмы принцип замкнутости часто предстает как требование уменьшения роли случайности в действии пьесы. Случайность – прорыв из внесценического пространства. «Случайностью в драме является всё то, что вторгается в драматургическую борьбу извне, не связанное с активностью действующих лиц»[60]. В драматургии, по словам Владимира Набокова, «на все, что может показаться случайным, наложено табу»[61]. Однако требовать полного исключения случайностей – значит не замечать, что и сами персонажи, и их характеры и свойства, и вся ситуация, в которой они первоначально находятся, в любом случае поступают в пьесу извне.
Когда персонаж только появляется на сцене, он еще не является порождением собственной активности. Поэтому полностью избавиться от авторского произвола невозможно. В любом случае, все персонажи и обстоятельства выводятся автором на сцену из внесценического пространства, автор, как Бог, творит их из ничего на глазах зрителя.
Но если логика вынуждена мириться с этим авторским произволом, то, по крайней мере, следует ограничить область произвола самым началом, точкой творения мира драмы, после чего созданная автором система сил должна развиваться уже по своим собственным законам. Если сравнить автора пьесы с Богом, то требование замкнутости мира пьесы означает требование деизма: творец создает мир, но дальше он должен оставить его в покое, предоставив своим внутренним закономерностям. Творец пьесы должен в начале завести ее, как часы – а потом пьеса должна развиваться сама. Если воспользоваться термином, предложенным А. А. Реформатским, то драма в большинстве случаев обладает «имманентной структурой сюжета». Это означает, что «тематика “сюжетного зерна” содержит в себе implicite весь сюжет, так что композиционное изложение выявляет лишь этот сюжет explicite, иными словами движение и динамика произведения с имманентным сюжетом достигается реализацией экспонированных в изначальной ситуации мотивов»[62].
Об этой «имманентности» драматических сюжетов решительно заявляет Джон Лоусон: «Единство причин и следствий в основе своей является единством экспозиции и кульминации… Установление цели в начале пьесы должно быть вызвано теми же реальными силами, которые доминируют в кульминации… Силы, определяющие первоначальный волевой импульс, это те же самые силы, которые определяют его результат. Началом пьесы является тот момент, когда эти силы максимально воздействуют на волю героя, придавая ей направленность, которая затем остается на всем протяжении пьесы. Причины, привносимые позже, остаются второстепенными, потому что введение более сильной причины изменило бы условия и тем самым уничтожило бы единство пьесы»[63].
Принцип, согласно которому все важнейшие движущие силы драматического сюжета должны быть введены в него в самом начале, заставил М. С. Кургинян[64] заявить, что действие драмы, в отличие от действия эпоса, не перспективно, а ретроспективно. Оно протекает как бы с постоянной «оглядкой» на исходную ситуацию, вплоть до конца, до развязки, в которой она (эта ситуация) предстает уже в снятом (т. е. так или иначе разрешенном) виде.
Набоков, по словам которого действие идет к финалу «с неизбежностью, заложенному в причине», считает, что именно в этом заключается неправдоподобие драматического искусства: «В трагедии ни один затеплившийся огонек не угасает, хотя возможно, одна из трагедий жизни в том-то и состоит, что даже самые трагические столкновения просто сходят на нет»[65].
В каком-то смысле, требование, чтобы силы кульминации явно или скрыто присутствовали еще в экспозиции, означает, что во второй половине действия начинается период нечувствительности героев и ситуаций к внешним факторам. Это можно интерпретировать таким образом, что в начале пьесы герои получают столь сильное воздействие, что у них исчерпываются резервы чувствительности, и они перестают реагировать на новые угрозы, соблазны и вызовы. Целостность действия пьесы в свете принципа замкнутости можно истолковать так, что пьеса описывает период исчерпания влияния определенной группы факторов на человеческую жизнь. Подобным образом, при исследовании действия лекарств медики пытаются проследить их путь от попадания в человеческий организм до времени, когда следов медикамента в нем уже не обнаруживается. Так и драматург прослеживает действие некоего факта от начала воздействия его на жизнь героя – и вплоть до избавления героя от власти данного фактора. От момента, когда в героях проснулась любовь – и вплоть до их гибели или свадьбы. От совершенного греха – до наказания или прощения.
Со времен Аристотеля известен парадокс, что требование нахождения причин любого события не может относиться к самой первой причине, перводвигатель всякого движения сам двигаться не должен. Проецируясь на построение драмы, этот парадокс обрел вид требования замкнутости, означающего, по сути, смещение творческого произвола автора к началу пьесы. Такое требование могло возникнуть только потому, что изображение необходимости и даже иллюзия явной причинно-следственной связи воспринималась как важная для драмы эстетическая ценность.
Впрочем, поскольку ни один эстетический принцип никогда не соблюдается всегда и везде, то, разумеется, и принцип замкнутости сюжета – имеющий некоторое значение для всех родов и жанров литературы, но действительно строгий в драме – периодически нарушается. Это побудило американского литературоведа М. Л. Райана, говорить о «грубых фабульных ходах», то есть грубых авторских вторжениях в правдоподобное течение действия, когда оно происходит в соответствие с принципами Аристотеля «по вероятности» и «по необходимости»[66]. Райан насчитывает 7 разновидностей «грубых ходов»:
1) необычайное совпадение;
2) сплетня (потерянное и найденное письмо)
3) ложная весть
4) вера клеветнику
5) фабульная симметрия
6) «Бог из машины»
7) прерванное действие.
И при этом, по мнению М. Л. Райан, в завязках грубый фабульный ход более терпим, чем в финале, – что еще раз подтверждает принцип замкнутости.
При всем том очевидно, что любое движение сценического действия происходит исключительно по воле автора, и всякая следующая сцена появляется не иначе, как произволом драматурга. Но традиция требует от драматургов создания иллюзии самодвижения событий. Последняя же возникает тогда, когда зритель способен проследить цепочку причин и следствий с самого начала и до самого конца пьесы. Когда муж, застав любовника в постели жены, вызывает его на дуэль, когда на дуэли убивают одного из персонажей, то это кажется естественным и необходимым развитием событий. В то же время появление посреди действия нового персонажа, неожиданного известия, или влияющего на ход действия природной катастрофы (например, чумы в «Ромео и Джульетте) выглядит как «случайность», то есть акт авторского произвола. Все дело в том, что зритель не может проследить ту цепочку причин и следствий, которая привела к появлению во второй половине драмы чумы или нового персонажа, – если только автор не сообщит об их существовании с самого начала.
Фактически «случайность» в сюжете драмы является другим названием авторского произвола, и «случайность» в течение последних двух столетий всегда ставилась критиками в упрек драматургам как недостаток сюжета. В «Словаре театра» Пави говорится: «В рамках классической драматургии… действие или поступок видится как нечто логически обоснованное и необходимое. Таким образом, случайность, иррациональное и алогичное сразу же лишаются права на существование. В том случае, когда таковое все же в пьесе происходит, автор тут же должен дать надлежащее объяснение и оправдание»[67].
В. Е. Хализев даже считал, что эволюция европейской драмы идет по пути постепенного уменьшения значения случайных перипетий, а чума и другие случайности в «Ромео и Джульетта» как раз и служат свидетельством архаичности этой трагедии, еще не отличающей случайные и закономерные препятствия на пути героя.
Замкнутый драматический космос не изолирован от остальной вселенной, но все важные факторы внешнего воздействия в нем пересчитаны и известны заранее, и новые не появляются.
Глава 2
Проблема целостности сюжета
2.1. Начало и конец: типология смысловых связей
В основе такого эстетического феномена как «единство» сюжета лежит противостояние и взаимное тяготение двух ситуаций: той, которая была до начала драмы, и той, которая возникает в финале. Это два «плато», два «псевдостабильных состояния», и сюжет описывает переход от одного к другому, разрешение одного в другое.
При этом, любопытно то, что те «псевдостабильные состояния», которые противостоят друг другу в завязке и финале, и которые отделены друг от другом действием драмы, как правило, уже маркированы культурой в качестве «противоположностей», либо в качестве стандартно следующих друг за другом причины и следствия. В западной культуре действует, постоянно обновляясь, специальная «разметка», позволяющая классифицировать пары начальных и финальных состояний всякого сюжета, в качестве стереотипно следующих друг за другом спутников, часто считающихся полюсами на некой разработанной в культурном пространстве шкале, тезисом и антитезисом. Финальное состояние часто считают «разрешением» или «инверсией» исходного.
Сюжет задают два термина – термины начала и конца, причем второй термин является неким значимым для культуры образом разрешением, завершением первого, восстановлением равновесия, которое нарушает первый. Такое противопоставление смысловых пар – например «любовь и смерть», «любовь и брак», «война и победа», «преступление и наказание», «попытка и неудача» – чрезвычайно часто возникает в анализе сюжетов. Такая фиксация сюжетной структуры с помощью двух терминов – начального и конечного – заставляют вспомнить мысль О. М. Фрейденберг о том, что вообще наррация (то есть разворачиваемый во времени рассказ) возникает тогда, когда в повествовании возникают хотя бы два времени – скажем, прошлое и настоящее. Первоначальные архаические рассказы, по мнению Фрейденберг, не знают времени, они склонны к «картинному» описанию событий, рядоположенных в пространстве. «Дотрагедия представляет собой действо смотрения на некую показываемую панораму»[68] – причем, этот «картинный» метод изображения сохраняется в прологах греческих трагедий. Только когда в фигуре метафоры, сравнения сравниваются два «картинных» рассказа, относимых к разному времени, возникают условия для наррации. Сюжет задают два времени, требующих перехода одного в другое.
Габриель Тард сказал: «История может быть легко разложена на элементарные действия наивозможной продолжительности, по которым сводятся все: или к перевороту, за которым следует новый порядок, или к войне, за которой следует новый трактат, – к затруднению, сопровождаемому новым приспособлением, – к движению или процессу, за которым следует остановка, – к спору, за которым следует вывод – одним словом, к вопросу, за которым следует ответ. И вот поэтому театральная пьеса в существенном состоит из завязки, или узла, и распутывания (развязки) их. И если мы более внимательно анализируем этот узел, то увидим, что он состоит из да, противополагаемому какому-нибудь нет, или из тезиса, противополагаемого антитезису, или из многих подобных пар, комбинированных различными способами»[69].
Мы бы взяли на себя смелость перечислить те пары терминов, с помощью которых наиболее часто и в наиболее обобщенном виде можно было бы проклассифицировать основные типы единства драматического сюжета, – единства, образуемого противостоянием начального и конечного «полюса».
1. Телеологическое единство строится на противопоставлении «цель – результат» (или «замысел-реализация»;)
2. Карательное единство – строится на противостоянии «преступление-наказание».
3. Сатисфакционное (удовлетворяющее) единство строится на противопоставлении: ущерб – возмещение. Самым распространенным способом сатисфакции, как правило, является возмездие, отмщение, и, таким образом, отличие сатисфакционного от карательного сюжета зависит от того, кто же является главным героем драмы – преступник или жертва. Сатисфакционный сюжет написан с точки зрения жертвы. Так, единство сюжетов таких драм, как «Ричард III» Шекспира, «Каменный гость» Тирсо де Малино или «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, – безусловно карательного типа, в центре пьес стоят преступники, а их жертвы слишком многочисленны, и являются скорее второстепенными героями. С другой стороны, в «Любви после смерти» Кальдерона второстепенным персонажем оказывается преступник, местью которому занят главный герой. В то же время существует немало пьес, в которых преступник и жертва оказываются равноправными «протагонистом и антагонистом», и таким образом единство этих сюжетов можно в равной степени охарактеризовать и как карательное и как сатисфакционное. Прекрасным примером пьесы с подобной «двойной центрацией» может служить драма Лопе де Вега «Периваньес и командор Оканьи» – в ней имена жертвы и преступника вынесены в заголовок, и они оба в равной степени присутствуют на сцене. Единство такого рода сюжета можно охарактеризовать как «карательно-сатисфакционное».
4. Трансформационное единство – довольно редкий тип сюжета, сводящийся к описанию превращения вещи в нечто другое – соответственно, начало и конец такого повествования составляют состояния «вещи» до и после превращения. Обычно речь идет о перерождении человеческой личности. В чистом виде сюжет этого типа можно увидеть в драме Брехта «Человек как человек» – она описывает почти чудесное превращение мирного грузчика в солдата английской армии, причем у него меняется даже имя.
5. Биографическое единство строится на противопоставлении «жизнь-смерть». То есть это рассказы, построенные на описании жизни персонажа, чье окончание естественным образом служит окончанием и самого рассказа.
У Габриеля Тарда можно найти еще одну, альтернативную, данную мимоходом, но тем не менее также очень интересную классификацию терминологических пар: по его мнению, «единство художественного произведения состоит просто в сочетании вопроса и ответа, задачи и ее решения, борьбы и победы»[70]. Здесь Тардом упомянуты три важнейших, но отнюдь не сходных между собой типа событийных циклов, нарушающих и восстанавливающих некое равновесие и, тем самым, обеспечивающих единство сюжета.
Цикл «вопрос и ответ» относится, собственно говоря, не к содержанию сюжета, не к его героям, а к отношениям, складывающимся между повествованием и его читателем. Предоставляя читателю явно неполную, недостаточную для полного понимания ситуации информацию, текст возбуждает любопытство читателя, которое он удовлетворяет ближе к концу. Таким образом, нарушаемым в данном случае равновесием, оказывается психическое равновесие читателя. Играя на заложенной во всяком человеке склонности к «познавательному поведению», на врожденном любопытстве, повествование усиливает внимание читателя к происходящему в тексте и заставляет его страстно желать узнать, чем же это все кончится. То, что это страстное желание является важнейшим фактором динамической целостности действия, было осмыслено французскими теоретиками драмы XVIII века. Вольтер говорил, что душою трагедии является сохранение атмосферы таинственности до самого последнего момент; аббат Д’Обиньяк утверждал, что законом театра является напряженное ожидание; Мармонтель считал, что действие является загадкой, а развязка – разгадкой. По Тарду, «каждая фраза, музыкальная или словесная, есть волна, имеющая свое понижение и повышение. Она составляет целое, потому что начинается с возбуждения любопытства, а затем удовлетворяет его, разрушает внутренне равновесие, а потом восстанавливает его»[71].
Однако цикл загадки и разгадки еще не предопределяет целостность сюжетного действия, взятого в аспекте его предметного содержания. К содержанию литературного произведения относится вторая, указанная Тардом, пара – задача и решение. А в том случае, если проблема нахождения ответа на некий вопрос стоит не только перед читателем, но и перед героем литературного произведения, то структурная целостность вопроса и ответа оказывается разновидностью другой, более общей целостности «задачи и решения», поскольку нахождение ответа на вопрос, есть, собственно говоря, частный случай решения некой задачи.
Данный тип сюжетообразующего нарушения равновесия – наиболее распространенный и простой. В частности, поэтому А. Молдавер[72] вообще считает триаду «цель-средство-результат» универсальной формулой любых литературных сюжетов. Постановка некой цели, задачи можно считать моментом нарушения психического равновесия героя, вынуждающего его предпринимать определенные действия по достижению данной цели, или, другими словами, решению данной задачи. Причем успокаивается, то есть достигает нового равновесия герой только тогда, когда находит решение задачи или смиряется с недостижимостью поставленных целей, либо гибнет. Разумеется, при этом и сама поставленная перед героем цель должна быть необычной: чтобы действия героя были достойными литературного сюжета, стоящие перед героем задачи должны провоцировать его совершать неординарные действия, и, таким образом, выводить из равновесия локальную социальную систему.
Противопоставление позиций «загадка-разгадка» и «задача-решение» как позиций зрителя и героя позволяют говорить, что существуют два основных измерения драматического действия, которые можно было бы назвать операциональным и когнитивным.
Действие в операциональном измерении наполняется поступками героев, и движется за счет них. Действие в когнитивном измерении представляет собой историю познания зрителем некой моделируемой и исследуемой в драме реальности. «Героем» когнитивного действия является зритель, поскольку именно ему предстоит познать раскрываемую драмой реальность. «Завязкой» когнитивного действия является неизвестность, сокрытость некой ценной реальности, и «финалом» является новая степень понимания этой реальности. Когда мы обращаем внимание на наличие в драме этого «когнитивного» измерения, мы, тем самым, сталкиваемся с тем фактом, что у художественной литературы есть и познавательная функция – наряду с развлекательной, эстетической, социально-коммуникативной и всеми прочими, какими ни есть функциями.
Именно благодаря наличию когнитивного измерения действия, действие в обычном смысле может не обладать целостностью и четкой линейной структурой. Бессвязность составляющих пьесу событий может быть компенсирована связностью «постижения» как переживаемого зрителем благодаря этим событиям процессу. Панорама бессвязных событий может обладать динамикой «лекции», обеспечивающей движение зрителя «вглубь», в сторону истины. Вялое и противоречивое действие может обеспечить стремительное и целостное углубление познания. Такая «панорамность» характерна, скажем, для пьес Осборна. Этот английский драматург не столько развивает ситуацию, сколько описывает ее, демонстрируя с разных сторон.
Стоит вспомнить, что некоторые драматурги специально подчеркивали «познавательную» роль своих пьес. Так Чехов считал, что «Иванов» дает окончательный диагноз феномена «ноющего человека», а Ионеско утверждал, что его «Носорог» показывает зарождение тоталитаризма. Поздние пьесы О’Кейси – «Алые розы для меня», «Костер епископа», «Барабаны отца Неда» – имеют слабый сюжет, а скорее демонстрируют царящую в Ирландии обстановку. Пьеса «Барабаны отца Неда» имеет подзаголовок «Ирландия в миниатюре».
Но Тард указывает еще одну сюжетообразующую категориальную пару: борьба и победа – это именно тот случай, когда сюжет, как история вещи, оказывается историей конфликта. Различие данной категориальной пары («борьба – победа») от предыдущей («задача-решение») заключается в том, что задача обычно стоит перед единственным субъектом, в то время как борьба предполагает как минимум две равноправных стороны. Это различие не просто количественное: появление второго участника уже не позволяет истолковывать нарушенное равновесие как исключительно субъективно-психологическое событие.
В сюжете, построенном по типу «задача-решение» исходное равновесие нарушается в системе из одного элемента – главного героя, и в силу этого оно может быть легко истолковано как, в первую очередь, нарушение душевного равновесия героя. Но в сюжете типа «борьба-победа» характеристики «равновесия» и «нарушения» относятся уже к системе из нескольких субъектов, каждый из этих субъектов обладает психологией, но система в целом уже не обладает коллективным сознанием, и поэтому понятия равновесия, его нарушения и последующего восстановления в двустороннем конфликте относятся исключительно к отношениям между субъектами.
Для драматургии это различие между «задачей» и «борьбой» в XIX веке было зафиксировано немецким критиком и историком литературы Германом Геттнером, введшим различение между «трагедией обстоятельств» и «трагедией страстей». Различие между ними заключается в том, что в трагедии обстоятельств «страсть» – то есть субъективное, психологически выразительное побуждение к действию – присутствует только с одной стороны, в то время как в трагедии страсти мы имеем дело с противоборством страстей.
Разумеется, четкой границы между двумя типами целостности сюжета нет. В борьбе каждая сторона решает свою задачу («боевую задачу»), всякий двусторонний конфликт можно представить как комбинацию индивидуальных задач. Поэтому предлагаемый А. Молдавером анализ «цесарной» (от ЦСР – «цель-средство-результат») структуры сюжета можно легко применить к сколь угодно сложному и многостороннему конфликту – хотя, разумеется, ситуация одного персонажа внутри сюжета еще не образует целого сюжета.
Но еще важнее то, что обстоятельства, с которыми борется решающий свою персональную задачу герой никогда не бывают абсолютно безличны, и, таким образом, отличие «двусторонней» драмы борьбы от односторонней драмы задачи заключается исключительно в выразительности противостоящих главному герою персонажей, а тут возможно множество степеней и оттенков субъективных оценок. По этой причине перечисленные Тардом типы целостности сюжета может быть имеют значение не столько для классификации самих сюжетов, сколько для фиксации того, какого рода равновесие нарушается и восстанавливается в ходе развертывания действия. В идеале речь идет как минимум о трех нарушенных и восстанавливающихся типах равновесия: душевном (психическом) равновесии читателя литературного произведения; душевном (психическом) равновесии его героя; равновесии в отношениях между персонажами произведения.
Поскольку принято считать, что драматический конфликт призван выражать типичные общественные конфликты, ничто не мешает также говорить о скрытом присутствии в сюжете четвертого типа равновесия – социальной системы, нарушение которого зримо воплощается в конфликте между персонажами.