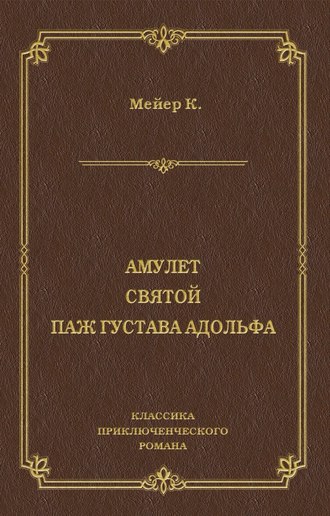
Конрад Мейер
Амулет. Святой. Паж Густава Адольфа
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
Амулет
Предо мной лежат старые пожелтевшие листки с заметками начала XVII века. Я передаю их на языке нашего времени.
Конрад Фердинанд Мейер, 1873
Глава I
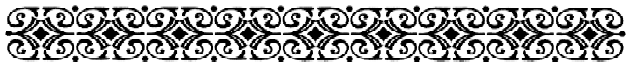
Сегодня, 14 марта 1611 года, я отправился верхом из своих владений на Бильском озере в Курсион, к старому Боккару, чтобы закончить затянувшиеся переговоры о продаже принадлежащей мне дубовой и буковой рощи близ Мюнхвейлера. В продолжительной переписке старик добивался понижения цены. В ценности этого лесного участка не могло быть серьезных сомнений; тем не менее старец считал своим долгом выторговать с меня хоть сколько-нибудь. Так как, однако, я имел достаточно оснований оказать ему любезность и, кроме того, нуждался в деньгах, для того чтобы облегчить моему сыну, состоявшему на службе Генеральных Штатов и обрученному с кругленькой белокурой голландкой, устройство нового хозяйства, я решил уступить и поскорее покончить сделку.
Я застал его в его странном поместье одиноким и опустившимся. Его седые волосы в беспорядке свисали ему на лоб и затылок. Когда он услышал о моей готовности уступить, его потухшие глаза при этом радостном известии засверкали. На склоне лет копил и собирал он богатства, забывая, что с ним кончался род его и что все его имущество должно было достаться чуждым ему наследникам.
Он повел меня в маленькую комнату в башне, где в изъеденном червями шкафу хранились его бумаги, предложил сесть и попросил составить договор. Окончив эту небольшую работу, я обернулся к старику, который в это время рылся в ящиках в поисках печати, по-видимому затерявшейся среди вещей. Увидев, как поспешно он все разбрасывал, я невольно поднялся, желая ему помочь. В это время он как раз с лихорадочной торопливостью открыл потайной ящик; я подошел к нему, взглянул – и не мог удержать глубокого вздоха.
В ящике лежали рядом два странных, слишком хорошо мне знакомых предмета, а именно: продырявленная войлочная шляпа, когда-то пробитая пулей, и круглый большой серебряный образок с довольно грубо вычеканенным изображением Эйнзидельнской Божьей Матери.
Старик повернулся ко мне, как бы отвечая на мой вздох, и заговорил жалобным тоном:
– Да-да, господин Шадау, Божья Матерь Эйнзидельнская еще могла оберегать меня и дома, и на поле брани, но с тех пор, как на свет появилась ересь и опустошила и нашу Швейцарию, могущество милостивой Царицы Небесной угасло даже для верных католиков. Это сказалось на Вильгельме, моем милом мальчике.
И слеза появилась на его седых ресницах.
При этой сцене мне стало больно, и я сказал старику несколько слов утешения по поводу утраты его сына, бывшего моим сверстником и павшего рядом со мной смертельно раненным. Но мои слова, казалось, его расстроили, или же он не дослушал их, потому что он снова поспешно вернулся к разговору о нашем деле, снова начал искать печать, наконец нашел ее, скрепил купчую и вскоре, без особой вежливости, отпустил меня.
Я отправился домой. Дорогой, в сумерках, с ароматом весенней ночи поднимались передо мной с такой непреодолимой силой, с такой ясностью, в таких резких очертаниях картины прошлого, что мне становилось больно.
Судьба Вильгельма Боккара была тесно сплетена с моей, сначала в радости, потом в горе. Я навлек на него смерть. И все же, как бы меня это ни угнетало, я не раскаиваюсь и сегодня поступил бы так же, как тогда, когда мне не было и двадцати лет. Тем не менее воспоминания о давно минувшем до того захватили меня, что я решил письменно изложить всю эту необычайную историю и этим облегчить свою душу.
Глава II
Я родился в 1553 году и не знал своего отца, несколько лет спустя павшего на окопах Сен-Кантена. Будучи по происхождению из Тюрингии, мои предки искони состояли на военной службе и следовали в бой за многими полководцами. Мой отец оказал особенно много услуг герцогу Ульриху Вюртембергскому, за преданную службу предоставившему ему должность в своем графстве Мампельгард и оказавшему содействие его браку с одной девицей из Берна, предок которой был его другом еще в те времена, когда Ульрих изгнанником скитался по Швейцарии. Однако моему отцу было не по себе на спокойном месте, и он поступил на службу Франции, в то время собиравшейся защищать Пикардию от Испании. Это был его последний поход.
Мать моя последовала за отцом в могилу немного спустя. Меня взял к себе дядя со стороны матери, владелец поместья у Бильского озера, представлявший собой явление своеобразное и утонченное. Он мало вмешивался в общественные дела, и в землях Бернских его терпели лишь благодаря его блестящему имени, записанному в летописи страны. С юных лет он занимался толкованием Библии, что, правда, не было удивительно в эту эпоху религиозных потрясений. Но удивителен был сделанный им из некоторых мест Священного Писания, в особенности из Откровения Иоанна, вывод, что настал конец света и что поэтому неблагоразумно и суетно накануне этой катастрофы основывать новую церковь. Вследствие этого он решительно и упорно отказывался пользоваться принадлежащим ему по праву местом в Бернском соборе. Как сказано, только его уединенная жизнь защищала его от карающей руки церковной власти.
На глазах этого безобидного и милого человека я вырос на деревенской свободе если и не без строгости, то все же не зная розог. Общество мое составляли мальчишки соседней деревни и их пастор, строгий кальвинист, которому мой дядя самоотверженно предоставил обучать меня господствующему в стране вероучению.
Эти два воспитателя моей юности расходились во многом. Между тем как богослов вместе со своим учителем Кальвином смотрел на вечность адских мук как на необходимую основу богобоязни, мирянин утешал себя грядущим прощением и радостным воскресением. Суровая последовательность учения Кальвина доставляла наслаждение моему разуму и развивала мои мыслительные способности. И я овладевал этим учением словно прочной сетью, не теряя в ней ни одной петли, но сердце мое, без оговорок, принадлежало дяде. Его картины будущего интересовали меня мало, только один раз ему удалось смутить меня. Уже давно я лелеял мечту обладать диким жеребчиком чудной чалой масти, виденным мной в Биле. Однажды утром я пришел с этой большой просьбой к дяде, сидевшему углубленным в книгу. Я боялся отказа не из-за высокой цены, а из-за всем известной неукротимости коня, которого я желал объездить. Едва я успел открыть рот, как он устремил на меня пристальный взор своих светящихся голубых глаз и торжественно сказал: «Знаешь ли ты, Ганс, что означает конь бледный, на котором сидит смерть?»
Я опешил, пораженный дядиным даром ясновидения; но взгляд, брошенный в развернутую перед ним книгу, пояснил мне, что он говорит об одном из четырех апокалиптических всадников и что к моему коню это не имеет ни малейшего отношения.
Ученый пастор преподавал мне одновременно математику и даже начатки военного искусства, поскольку возможно почерпнуть их из известных руководств, так как в молодости своей, будучи студентом в Женеве, он побывал и на поле битвы, и на укреплениях.
Было предрешено, что я, достигнув семнадцати лет, поступлю на военную службу; вопрос относительно того, под чьим командованием я должен провести первые годы своей службы, для меня был тоже решен. Слава великого Колиньи наполняла тогда весь мир. Не победами возвысился он, таковых не выпало ему на долю, но поражениями, которым, благодаря своему искусству полководца и силе характера, он умел придать значение побед. Он возвышался над всеми полководцами своего времени, уступая только испанскому Альбе, которого я ненавидел, как смертный грех, подобно моему отважному отцу, верно и прямо стоявшему за протестантскую веру, и моему начитанному в Библии дяде, неодобрительно относившемуся к папизму и находившему, что он предречен откровением в образе вавилонской блудницы, я сам уже начал горячо склоняться в эту сторону. Еще будучи мальчиком, я был записан в ряды протестантского отряда, когда в 1567 году надо было взяться за оружие, чтобы оградить Женеву от вторжения Альбы, который из Италии вдоль швейцарской границы пробирался в Нидерланды. Юноше было невмоготу оставаться в уединении Шомона, как называлась усадьба моего дяди.
В 1570 году Сен-Жерменский эдикт открыл гугенотам доступ ко всем должностям во Франции. Колиньи, призванный в Париж, обсуждал с королем, сердце которого он, как говорили, завоевал вполне, план похода против Альбы для освобождения Нидерландов. С нетерпением ожидал я на долгие годы затянувшегося объявления войны, которое должно было вызвать меня в ряды Колиньи, ибо конница его искони состояла из немцев, а имя моего отца ему должно было быть памятно с прежних времен.
Но это объявление войны все оттягивалось, и двум досадным происшествиям было суждено омрачить последние дни, проведенные мной на родине.
Однажды в мае, когда мы с дядей вечером ужинали в тени цветущей липы, перед нами предстал с довольно заискивающим видом незнакомец в поношенной одежде, беспокойные глаза и грубые черты которого произвели на меня неприятное впечатление. Он представился милостивым господам как шталмейстер, что в нашем обиходе означало просто конюх, и я уже был готов спровадить его, так как дядя до тех пор не обращал на него никакого внимания, когда незнакомец стал выкладывать передо мной все свои познания и способности.
– Я владею шпагой, – сказал он, – как немногие, и с высшей школой фехтования я знаком основательно.
Будучи лишен возможности посещать городские фехтовальные залы, я именно в этом видел пробел в своем образовании и поэтому, несмотря на мое инстинктивное отвращение к незнакомцу, не задумываясь воспользовался представившимся случаем. Я потащил незнакомца в свою фехтовальную комнату и дал ему в руку клинок, при посредстве которого он так превосходно справился со мной, что я немедленно сговорился с ним и взял его к нам на службу.
Дяде я объяснил, как благоприятен случай в последний момент перед отъездом обогатить сокровищницу моих рыцарских познаний.
С этой минуты я проводил с незнакомцем, – он сообщил, что он по происхождению богемец, – вечер за вечером, зачастую до позднего часа, в моей оружейной комнате, которую я возможно ярче освещал двумя стенными лампами. Я легко усвоил выпады, парады и вольты и скоро теоретически вполне уверенно исполнил все приемы «школы», к полному удовлетворению моего учителя; тем не менее я приводил его в отчаяние тем, что никак не мог отделаться от известной, врожденной мне размеренности в движениях, которую он называл медлительностью и своим молниеносно сверкавшим клинком побеждал шутя.
Для того чтобы внушить мне недостающий пыл, он прибегнул к довольно странному способу. Он пришил на свою фехтовальную рубашку сердце из красной кожи, обозначавшее место, где билось живое сердце, и во время фехтования насмешливо и вызывающе указывал на него левой рукой. При этом он выкрикивал разнообразные боевые клики, чаще всего: «Да здравствует Альба! Смерть нидерландским мятежникам!», или же: «Смерть еретику Колиньи! На виселицу его!» Несмотря на то что эти возгласы в глубине души возмущали меня и делали мне этого человека еще более противным, мне не удавалось ускорить своего темпа, потому что как старательный ученик я уже достиг наивысшей доступной мне скорости. Как-то вечером, когда мой богемец как раз поднял свой страшный крик, в боковую дверь с озабоченным видом вошел дядя, чтобы посмотреть, что происходит, но тотчас же, ужаснувшись, удалился, ибо в эту минуту мой противник с восклицанием «Смерть гугенотам!» нанес мне в середину груди жестокий удар, который, будь это всерьез, пронзил бы меня.
На следующее утро мы завтракали под нашей липой, у дяди было что-то на душе: я полагаю, что это было желание отделаться от нашего жуткого соседа. В это время бильский городской рассыльный передал ему письмо с большой печатью. Дядя вскрыл его, наморщил во время чтения лоб и передал его мне со словами: «Вот тебе на! Прочти, Ганс, и обсудим, что делать».
Там было сказано, что какой-то богемец, некоторое время тому назад обосновавшийся в Штутгарте в качестве учителя фехтования, из ревности злодейски заколол свою жену, по рождению швабку. Было установлено, что преступник скрылся в Швейцарии; более того, что его, или кого-то чрезвычайно с ним схожего, будто бы видели на службе у владельца Шомона; что последнего, к коему, в память покойного Шадау, зятя его, особенно благоволил герцог Христофор, настоятельно просят подозреваемого арестовать, произвести предварительный допрос и в случае, если подозрения подтвердятся, доставить виновного на границу. Бумага с подписью и приложением печати исходила от герцогской канцелярии в Штутгарте.
Во время чтения этого документа я в раздумье взглянул по направлению комнаты моего учителя, которая находилась в верхнем этаже замка, была видна со двора, и увидел, что он стоит у окна и занимается чисткой шпаги. Порешив схватить преступника и передать его в руки правосудия, я все же бессознательно повернул бумагу так, что, взглянув вниз, он должен был заметить большую красную печать. Этим я давал судьбе краткий срок для его спасения.
Мы обсудили с дядей вопрос о задержании и отсылке виновного, ибо в том, что это он, мы не сомневались ни минуты.
Затем, с пистолетами в руках, мы оба поднялись в комнату богемца. Она была пуста, но, взглянув в открытое окно поверх деревьев во дворе, мы увидели вдали, где дорога скрывалась за холмами, скачущего всадника. Когда мы спускались, посыльный из Биля, привезший бумагу, бросился к нам навстречу, жалобно говоря, что он не может найти своего коня, которого он привязал за воротами, пока его самого угощали на кухне.
К этой досадной истории, привлекшей всеобщее внимание и в устах людей принявшей фантастические размеры, присоединилась другая неприятность, которая сделала для меня дальнейшее пребывание дома невозможным.
Я был приглашен на свадьбу в Биль, лежащий на расстоянии какого-нибудь часа ходьбы городок, где я имел много, впрочем, поверхностных, знакомств. При моей довольно замкнутой жизни я слыл за гордеца, а так как в ближайшем будущем я помышлял, хотя бы в скромной должности, вплести свою жизнь в великие судьбы протестантского мира, я не мог находить интерес во внутренних раздорах и городских сплетнях маленькой Бильской республики. Поэтому приглашение не особенно улыбалось мне, и только по настояниям моего так же уединившегося, но, несмотря на это, общительного дяди я согласился принять его.
С женщинами я был застенчив. Будучи крепкого телосложения и необыкновенно высокого роста, но некрасив лицом, я смутно представлял себе, что отдам все свое сердце только одной и что случай к этому представится в среде, окружающей моего героя Колиньи. Кроме того, я был твердо уверен, что полное счастье может быть куплено лишь ценой всей жизни.
Среди моих юношеских увлечений первое место после великого адмирала занимал его младший брат Дандело, смелое сватовство которого, известное всему миру, разжигало мое воображение. Свою возлюбленную, лотарингскую девушку, он увез из родного города Нанси на глазах у своих смертельных врагов, католиков Гизов, с торжественными трубными звуками проехав с ней мимо герцогского замка.
Я желал, чтобы нечто подобное было предназначено и мне.
Скучный и угрюмый, я отправился в Биль. Ко мне были очень предупредительны и за столом указали место около премилой девушки. Как это всегда бывает с застенчивыми людьми, для того, чтобы избежать молчания, я впал в другую крайность и, чтобы не показаться невежливым, оживленно ухаживал за своей соседкой. Против меня сидел сын городского головы, важного москательного торговца, стоявшего во главе аристократической партии, ибо в маленьком Биле, как и в больших республиках, были свои аристократы и демократы. Франц Годильяр (так звали молодого человека), имея, быть может, какие-нибудь виды на мою соседку, с возрастающим интересом и враждебными взглядами следил за нашим разговором, чего я, впрочем, вначале не замечал.
Хорошенькая девушка спросила меня, когда я думаю уезжать во Францию.
– Как только будет объявлена война палачу Альбе, – ответил я горячо.
– О таком человеке следовало бы говорить в более почтительных выражениях! – бросил мне через стол Годильяр.
– Вы забываете, – возразил я, – о насилиях над нидерландцами. К их притеснителю не может быть уважения, будь это хоть величайший полководец в мире!
– Он усмирил мятежников, – был ответ, – и дал пример, полезный и для нашей Швейцарии.
– Мятежников! – воскликнул я и залпом выпил стакан огненного картальо. – Они мятежники не больше и не меньше, чем те, кто дал клятву на Рютли!
Годильяр принял заносчивый вид, поднял с важностью брови и продолжал, ухмыляясь:
– Если когда-нибудь основательный ученый исследует это дело, то, быть может, обнаружится, что восставшие против австрийцев крестьяне лесных кантонов были глубоко не правы и повинны в мятеже. Впрочем, это сюда не относится; я только утверждаю, что молодому человеку без заслуг, независимо от каких-либо политических мнений, не к лицу осыпать ругательствами знаменитого воина.
Этот намек на невольную задержку в моей военной службе возмутил меня до глубины души, желчь поднялась во мне.
– Негодяй, – крикнул я, – тот, кто берет под свою защиту негодяя Альбу!
Поднялась бессмысленная потасовка, после которой Годильяра унесли с разбитой головой, а я удалился с окровавленной и изрезанной брошенным в меня стаканом щекой.
Утром я проснулся с чувством великого стыда, предвидя, что я, защитник евангельской истины, прослыву пьяницей.
Недолго думая, я упаковал мой дорожный мешок и простился с дядей. Я рассказал ему о своей неудаче, и, после непродолжительного разговора, он дал согласие на то, чтобы я ожидал объявления войны в Париже. Я взял сверток золота из маленького наследства моего отца, вооружился, оседлал своего чалого коня и выехал по дороге во Францию.
Глава III
Без особых приключений я проехал Франш-Конте и Бургундию, добрался до берегов Сены и как-то вечером увидел башни Мелена, над которыми нависли тяжелые грозовые тучи. До городка оставалось не больше часа езды. Проезжая деревню, находившуюся у дороги, я увидел на каменной скамье у довольно приличной гостиницы «Три лилии» молодого человека, который, по-видимому, тоже был путешественником и воином; однако его одежда и вооружение были так нарядны, что мое кальвинистское одеяние резко от них отличалось. Так как в план моего путешествия входило до наступления ночи добраться до Мелена, я лишь бегло ответил на его поклон и проехал мимо. При этом мне послышалось, что он крикнул мне вслед:
– Счастливого пути, земляк!
Еще четверть часа я упрямо продолжал свой путь; в это время гроза тяжело надвигалась мне навстречу, воздух становился невыносимо душным, и короткие горячие порывы ветра поднимали на дороге пыль. Мой конь храпел. Вдруг ослепительная молния с треском ударила в нескольких шагах от меня в землю. Мой конь стал на дыбы и бешеным прыжком бросился обратно по направлению к деревне, где под проливным дождем, у самых ворот гостиницы, мне наконец удалось укротить испуганного жеребца.
Молодой проезжий, улыбаясь, поднялся с каменной скамьи, защищенной навесом, подозвал конюха, помог мне отвязать дорожный мешок и сказал:
– Не раскаивайтесь, что вам придется переночевать здесь; вы найдете тут прекрасное общество.
– Я не сомневаюсь в этом! – отвечал я с поклоном.
– Я, конечно, говорю не о себе, – продолжал он, – а об одном почтенном старом господине, которого хозяйка называет парламентским советником – видимо, важном сановнике – и его дочери или племяннице, несравненной девушке… Отведите господину комнату! – с этими словами он обратился к входившему хозяину. – А вы, земляк, скорее переоденьтесь и не заставляйте нас ждать, ибо ужин готов.
– Вы называете меня земляком? – спросил я по-французски, так как и он обращался ко мне на этом языке. – Почему вы принимаете меня за земляка?
– По всему вашему облику! – весело отвечал он. – Прежде всего вы немец, а по вашей твердости и положительности я узнаю в вас уроженца Берна. Я же ваш верный союзник из Фрибурга и зовусь Вильгельмом Боккаром.
Я последовал за хозяином в комнату, которую он указал мне, переоделся и спустился вниз в столовую, где меня ожидали. Боккар подошел ко мне, взял меня за руку и представил седому господину благородной наружности и стройной девушке в амазонке, говоря: «Мой товарищ и земляк…» При этом он взглянул на меня вопросительно.
– Шадау из Берна, – закончил он.
– Мне чрезвычайно приятно, – ответил старый господин любезно, – познакомиться с молодым гражданином знаменитого города, которому мои братья по вере в Женеве стольким обязаны. Я парламентский советник Шатильон, которому религиозный мир дает возможность вернуться в его родной город Париж.
– Шатильон? – повторил я с почтительным изумлением. – Это фамилия великого адмирала.
– Я не имею чести состоять с ним в родстве, – возразил парламентский советник, – или если и в родстве, то только в очень дальнем; но я знаком и дружен с ним, насколько это позволяет различие сословий и личных заслуг. Однако садимся, господа; суп дымится, а вечер достаточно велик для разговоров.
Мы сели за дубовый стол с витыми ножками. С одной стороны сидела молодая девушка, по правую и левую руку от нее было накрыто для советника и Боккара, я же помещался напротив. Когда трапеза была закончена при обычных расспросах и дорожных разговорах и к скромному десерту был подан искристый напиток соседней Шампани, речи начали становиться более развязными.
– Я должен вас похвалить, господа швейцарцы, – начал советник, – за то, что вы после коротких распрей сумели примириться в вопросах религии. Это доказывает, что вы обладаете чувством справедливости и здравым смыслом; моя несчастная родина должна была бы взять с вас пример. Неужели мы никогда не научимся понимать, что совесть нельзя покорить и что протестант может так же пылко любить свою родину, отважно защищать ее и подчиняться ее законам, как и католик!
– Вы слишком щедры в похвале нам! – вмешался Боккар. – Действительно, мы, католики и протестанты, кое-как миримся друг с другом, но раздвоение религии почти уничтожило всякое общение между нами. В прежние времена мы из Фрибурга часто роднились с бернцами. Теперь же это прекратилось, и долголетние связи порваны. В путешествии, – продолжал он с улыбкой, обратившись ко мне, – мы еще иногда помогаем друг другу, но дома мы едва кланяемся.
Позвольте мне рассказать вам: когда я был в отпуске во Фрибурге, – я служу в швейцарских войсках его христианнейшего величества, – как раз справлялся «молочный праздник» на Плаффейских лугах, где находится имение моего отца, а также пастбища Кирхбергов из Берна. Это было печальное празднество. Кирхберг приехал со своими четырьмя дочерьми, представительными бернками, с которыми, когда мы были еще детьми, я ежегодно танцевал на лужайках. Можете себе представить, что после первого же танца эти девушки среди позванивающих коров подняли богословский разговор и меня, всегда мало интересовавшегося этим, начали называть идолопоклонником и гонителем христиан, потому что в полях битвы при Жарнаке и Монконтуре я выполнил свой долг против гугенотов.
– Разговоры о религии, – заметил советник, – сейчас висят в воздухе. Но почему только нельзя вести их со взаимным уважением и приходить к примирению и к соглашению? Так, я уверен, что, например, вы, господин Боккар, не предадите меня костру из-за моей евангелической веры и что вы не последний из осуждающих жестокость, с которой уже давно обращаются с кальвинистами на моей бедной родине.
– Можете быть в этом уверены! – ответил Боккар. – Только вы не должны забывать, что нельзя назвать жестокими старинные законы государства и церкви, если они стремятся всеми средствами отстоять свое существование. Что же касается жестокости, то я не знаю более жестокой религии, чем кальвинизм.
– Вы думаете о Сервете? – тихо сказал советник, и лицо его омрачилось.
– Я думал не о человеческом суде, – возразил Боккар, – а о божественном правосудии, которое так искажает мрачная новая вера. Я лично ничего не понимаю в богословии, но мой дядя, каноник во Фрибурге, внушающий доверие и ученый человек, уверял меня, что один из догматов кальвинистов гласит, что ребенок, прежде чем сделать что-нибудь худое или доброе, с колыбели уже обречен или на вечное блаженство, или на муки ада. Это слишком ужасно, чтобы быть правдой!
– И все-таки это правда, – сказал я, вспоминая наставление моего пастыря, – ужасно или нет, но оно логично.
– Логично? – спросил Боккар. – Что значит логично?
– Логично то, что не противоречит само себе, – вымолвил советник, которого, по-видимому, забавляла моя горячность.
– Божество всемогуще и всеведуще, – продолжал я с уверенностью победителя, – в Его воле – предвидеть и не предотвращать, поэтому наша судьба предрешена с колыбели.
– Я бы с удовольствием опроверг вас, – сказал Боккар, – если бы только смог припомнить аргумент моего дяди! У него был убедительнейший аргумент против этого…
– Вы бы доставили мне большое одолжение, – заметил советник, – если бы постарались вспомнить этот прекрасный аргумент.
Фрибуржец налил себе полный бокал вина, медленно опорожнил его и закрыл глаза. После некоторого раздумья он весело сказал:
– Если господа обещают мне не прерывать меня и дать мне возможность беспрепятственно развивать мои мысли, я надеюсь, господин Шадау, что вы вашим кальвинистским Провидением с колыбели обречены на муки ада, – впрочем, сохрани меня Бог от такой невежливости, – предположим лучше, что осужден на мучения я; однако я ведь, слава богу, не кальвинист.
Он взял несколько крошек прекрасного пшеничного хлеба, вылепил из них человека и поставил его на свою тарелку, говоря:
– Вот стоит обреченный с рождения на адские муки кальвинист. Теперь внимание, Шадау! Верите вы в десять заповедей?
– Что вы говорите! – возмутился я.
– Ну-ну, ведь можно же задать вопрос. Вы, протестанты, ведь упразднили много старого! Итак, Бог повелевает кальвинисту: «Делай это! Не делай того!» Не жестокий ли обман такая заповедь, если человеку уже заранее предначертано не иметь возможности творить добро и быть вынужденным творить зло? И такую нелепость вы приписываете высшей мудрости? Это так же ни к чему, как сие творение моих пальцев!
И он щелчком сбил хлебного человечка с тарелки.
– Недурно! – выразил свое мнение советник.
В то время как Боккар старался не проявлять своего чувства удовлетворения, я поспешно взвешивал возражения, но в данный момент ничего подходящего не приходило мне в голову, и я сказал с некоторым стыдом и недовольством:
– Это темный и трудный догмат, который нелегко разъяснить. Впрочем, вовсе не необходимо признавать его, чтобы осудить папизм, очевидные злоупотребления которого вы сами, Боккар, не сможете отрицать. Вспомните о безнравственности попов!
– Да, среди них попадаются скверные личности, – подтвердил Боккар.
– Слепая вера в авторитет…
– Благодеяние для человеческой слабости, – прервал он меня. – В государстве и в церкви, как в самом маленьком судебном деле, должна быть последняя инстанция, дальше которой нельзя идти.
– Чудотворные реликвии!
– Исцеляли же тень святого Петра и плат святого Павла больных, – очень спокойно возразил Боккар, – отчего же мощи святых не могут творить чудеса?
– А это дурацкое поклонение Деве Марии?..
Не успел я выговорить эти слова, как ясное лицо фрибуржца изменилось, кровь бросилась ему в голову, он покраснел, вскочил со своего кресла и схватился за шпагу, восклицая:
– Вы хотите лично оскорбить меня? Если таково ваше намерение, обнажайте оружие!
Девушка тоже испуганно приподнялась со своего кресла, а советник умиротворяюще протянул обе руки к фрибуржцу. Я был крайне удивлен неожиданным действием моих слов, но не терял присутствия духа.
– О личном оскорблении тут не может быть и речи, – спокойно сказал я. – Я не подозревал, что вы, Боккар, человек, во всем обнаруживающий светскость и образованность и к тому же, как вы сами говорите, проявляющий мало интереса к вопросам религии, в этом единственном пункте проявите такую страстность.
– Разве вы не знаете, Шадау, что известно не только в области Фрибурга, но и далеко за ее пределами, что Эйнзидельнская Божья Матерь явила чудо мне, недостойному?
– Нет, уверяю вас, – возразил я. – Садитесь, дорогой Боккар, и расскажите нам об этом.
– Это известно всему миру и даже изображено на памятной доске в самом монастыре. На третьем году жизни я тяжко заболел, и следствием болезни явился полный паралич. Все средства оказывались бесполезными, ни один врач не мог помочь мне. Наконец, моя милая добрая мать ради меня предприняла босиком паломничество в Эйнзидельн. И вот свершилось чудо милости Божьей! С часу на час мне становилось легче, я окреп и оправился, и теперь, как видите, стал человеком со здоровыми и прямыми руками и ногами! Только Эйнзидельнской Божьей Матери я обязан тем, что могу радоваться своей молодости, а не влачу своих дней ненужным, безрадостным калекой. Теперь вы поймете, дорогие собеседники, и найдете естественным, что я на всю жизнь обязан благодарностью моей заступнице и от всего сердца предан ей.
С этими словами он вытащил из-под куртки шелковый шнурок, который он носил на шее: на нем висел образок, и он набожно приложился к нему.
Шатильон, наблюдавший за ним со странным выражением, в котором насмешка сочеталась с умилением, начал с обычной своей любезностью:
– А как вы думаете, господин Боккар, каждая мадонна могла бы так счастливо исцелить вас?
– Конечно, нет! – возразил Боккар с оживлением. – Мои родные пытались найти помощь во многих местах, пока не постучались в верную дверь. Эйнзидельнская Божья Матерь – единственная в своем роде.
– Тогда, – продолжал старый француз с улыбкой, – легко будет примирить вас с вашим земляком, если только это еще необходимо при вашем добродушии и веселом нраве, примеры которого вы уже являли неоднократно. Господин Шадау к своему резкому осуждению культа Марии не забудет в будущем сделать оговорку: за почетным исключением Эйнзидельнской Богородицы.
– На это я охотно соглашаюсь, – сказал я, подражая тону старика, однако внутренне не особенно одобряя его легкомыслие.
Тут добродушный Боккар схватил мою руку и сердечно пожал ее. Разговор принял другой оборот, и вскоре молодой фрибуржец поднялся и пожелал нам покойной ночи, извиняясь за то, что завтра с раннего утра намеревается продолжать свой путь.



