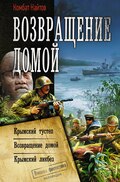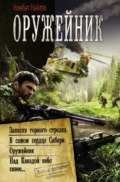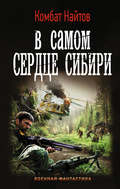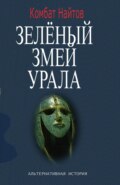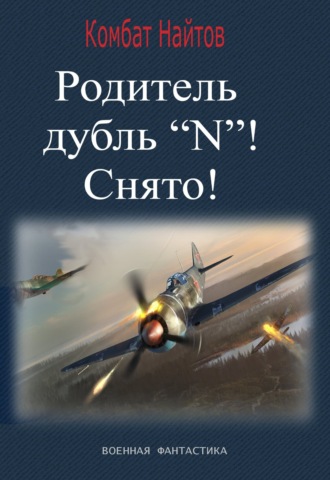
Комбат Найтов
Родитель дубль «N»! Снято!
Глава 5. «Скорость стука выше скорости звука» (из наблюдений)
Вечером Петр встретился с группой Кузнецова, с которыми проработал пятиступенчатый компрессор, его уплотнители, три турбины высокого, среднего и низкого давления, и планетарно-дифференциальные редукторы для двух винтов и вентилятора двигателя. Постарались ужать до минимума внешний диаметр, но сохранили коэффициент двухконтурности 15.2. Удалось отыграть почти 98 мм диаметра.
– Делайте изменения в чертежах, и запускайте в производство модифицированный двигатель. Первую разработку не бросать, четырехступый тоже найдет себе нишу. Мест, куда можно его бросить, много!
Фактически мы делаем два двигателя по этой схеме. Первый из них более отработан, там изменения коснулись только турбинной части, и его быстрее можно будет показать Госкомиссии. Второй позволит реализовать ту задумку, которая оставит далеко позади все существующие на сегодняшний день истребители. С этим движком наше «летающее крыло» просто никто не достанет, ни по высотности, ни по скорости. «А там посмотрим: кто – кого!». Петр практически перестал бывать дома, как только начали сборку двигателей и планера. Модель продули в ЦАГИ, причем сумели добиться секретности продувки, услав нашего «общего друга» Шишкина в Новосибирск. Из директората ЦАГИ машину видел только Некрасов, наш научный руководитель. Продули сразу три модели, в том числе с работающими двигателями, с размахом крыльев в 16,8 метра. Получив «добро» от института по управляемости и прочности, сразу начали подготовку этого варианта к испытательным полетам. Сама машина резко уступала будущей по экономичности. Движки на ней стояли ракетные, короткоживущие, какие были. Их запас у нас имелся, а компоновка позволяла за смену их заменить. Ведь предстояло научить на них летать летчиков, которым «такая лошадь» могла просто не понравиться. Во-первых, это был первый советский воздушно-реактивный самолет, во-вторых, у него была весьма «странная» аэродинамика и совершенно иные органы управления, в-третьих, это была первая в мире машина, в управление которой был встроен компьютер и гироскоп. Сама схема имеет врожденные и неустранимые недостатки: эти машины, все, неустойчивые в полете. Человек просто не успевает отреагировать на изменения, ну, я и приспособил устройства, которые помогают летчику держать машину по курсу и тангажу. Надобности следить за креном никакой нет, с этим и обычный человек хорошо справляется. Единственной проблемой были двигатели. Как я уже писал, они были малоресурсными. Для того, чтобы не расходовать ресурс, после первой серии испытаний, мы стали подвешивать к самолету стартовые ускорители, и только в этом случае могли обеспечить полную выработку бортового топлива. Все четыре двигателя работали на 35 % мощности. С такой нагрузкой они могли работать долго, но на ней взлететь было невозможно. Тем не менее, самолет совершил 20 обычных и 45 полетов с ускорителем. Было подготовлено пять человек, включая Петра, к полетам на будущем бомбардировщике. Сам самолет был полностью некомплектный: не было локатора, ставить его на машину с такими движками просто не стоило. На полной мощности он гарантированно мог пролететь только 400 километров, за двадцать минут. Это была летающая модель, а не предсерийный самолет. Но, как известно, скорость стука многократно превышает скорость звука. Сталину нас «заложили», хотя мы летали только со своего аэродрома Встречный, в Химках, и никаких заявок на испытания нигде не оформляли. Аэродром за городом, рядом с заводом. В общем, секретность, вроде как обеспечили, но не на 100 %. Последовал звонок Поскребышева, а мы со Сталиным встречались за это время один раз, когда Петр на Шокина давил. Начиналось все хорошо: вызывает «сам». Уже в Кремле выяснилось, что вызван не только Петр, но и Поликарпов. Они успели переброситься несколькими словами, ну, чтобы не было разногласий. Дескать, Николай Николаевич об этом ни сном, ни духом. Саму модель строили не у него, а на ракетном заводе № 500. Официальный полигон – Встречный. Туда модель доставили поездом.
Сталин к столу не пригласил, так что, разговор предстоял совсем не о том, как идут дела с совместным самолетом.
– Мы получили письмо начальника ЦАГИ Шишкина… – и дальше полилось такое откровенное вранье, что мы с Николаем Николаевичем от удивления начали переглядываться. Дескать, вышеупомянутый товарищ получил запрос Северо-Западного сектора ПВО Москвы, одновременно с этим такой же запрос получил Наркомат Авиапрома, что в секторе проводятся неустановленные полеты аппарата неизвестной конструкции, и так далее, и тому подобное. Когда Сталин выговорился и пригрозил нам обоим, что делом будет заниматься Наркомат Внутренних Дел, то Петр обратился к нему с вопросом:
– Тащ Сталин! Это же не письмо, это – закладная, в которой все перевернуто с ног на голову! Один из постов управления ПВО сектора находится у нас на СКП. Любые полеты в секторе разрешаются ими. Без этого ни одна машина взлететь просто не имеет права. Заявки, суточные, мы подаем ежедневно, и все полеты проходят только после получения такого разрешения. Ни ЦАГИ, ни НКАП, к процессу подачи заявок на испытания никакого отношения не имеют. Никто им никаких запросов не присылал. Им нужна информация о том, что происходит у нас на аэродроме. И у меня возникает резонный и законный вопрос: зачем Шишкину такая информация? Вот пусть с этим НКВД и разбирается: куда решил передать Шишкин эти сведения?
– Ну, он же пишет, что все летательные аппараты должны иметь разрешение ЦАГИ на допуск к полету.
– Такая бумага у нас есть, получена 18 августа, подписана руководителем лаборатории прочности Антоновым и замначальника Института Некрасовым. Вот она. Испытывается летающая модель будущего бомбардировщика, задание на строительство, которого, на средства внебюджетного фонда ГКО, было нами получено в июне месяце непосредственно от вас. Ведем отработку новых систем управления и подготавливаем летчиков, которым предстоит испытывать саму машину, на модели, изготовленной в масштабе 1:4, так называемом самолете-аналоге. Так дешевле, особенно, когда приходится строить довольно большую машину, еще и сложную, к тому же.
– То есть, у вас все готово?
– Нет, товарищ Сталин, машина будет готова не ранее января будущего года, если не выявим каких-нибудь неприятностей на моделях. – ответил Поликарпов.
– Так долго? Ви понимаите, что идет война, товарищ Поликарпов? Показывайте, что сделано, иначе мы отстраним вас от задания!!!
Он, видать, не с той ноги встал, и желает разрядиться на нас! Этого нам только и не хватало!
– Максимально готово у меня, в плане планера и систем управления, товарищ Сталин. Вот сама машина, это она в воздухе, это взлет с помощью ракетных ускорителей. А вот эта пачка – описание всех 65-ти полетов. Летных происшествий не было, программа полетов выполнена на 100 %.
– А почему не предъявляете на Госиспытания?
– Это же модель, а не самолет, товарищ Сталин. Экспериментальная машина.
– Какую скорость она показала?
– 1075 километров в час в горизонтальном полете на участке в 200 километров.
– Сколько? – спросил Сталин, и, после повтора мной установленной скорости, взорвался: – Ви понимаете, что это новый мировой рикорд?
– Отчетливо, товарищ Сталин. Мы уже говорили с вами на эту тему. Идет война, и речь не о рекорде. Речь о жизни наших летчиков. Они должны иметь возможность нанести удар и безопасно оторваться от противника. И никаких рекордов мы ставить не будем. Тем более, что двигателей для этой машины у нас нет, и в ближайшее время их не будет. Летает она на двигателях от крылатых ракет «Х-Х», не принятых в серию. Ресурс этих двигателей – 25 минут работы на полную мощность. Здесь полную не давали, чтобы не переходить за скорость звука.
Сталин, видимо, вспомнил тот разговор, который был у нас с ним в этом году. Сощурился, недовольно сжал губы.
– Что сделано у вас, товарищ Поликарпов.
Тот показал несколько эскизов, и стапель, где, кроме двух лонжеронов, еще ничего не было.
– Изготовлены и испытаны шестнадцать лонжеронов для 8-ми самолетов. Изготовлены моторамы и часть сопел. Из готового – пока все. Приступили, после окончания испытаний, к изготовлению органов управления и приборов. Общая компоновка закончена, ждали только окончания испытаний. Далее работы пойдут более интенсивно. Первый планер будет в январе месяце. Когда будут двигатели – мы не знаем.
– Кто их делает и где?
– Петр Васильевич, на заводе № 500. – Сталин перевел взгляд на Петра.
– Делаем, товарищ Сталин, но до окончания работ еще… Пока точных данных нет, работаем. А вот ракету, под эту машину, мы закончили. На следующей неделе начнутся бросковые испытания, заявка на которые уже подана.
Сталин был явно озадачен, и не знал ругаться ему или вызывать охрану. Петр достал фотографию готовой «Х-ХМ». Уже «заквадраченной», с новой укладкой плоскостей и рулей, и выдвижным воздухозаборником.
– Товарищ Сталин, сделали двух модификаций, на всякий случай, чтобы в «Ланкастеры» входила. Каждый из них сможет взять две ракеты. 400 километров дальности. И, теоретически, дальность можно удвоить, но, когда Институт горючих ископаемых выдаст заказанный объем топлива, у меня сведений нет. Пока ни килограмма не поступило. Прожигов тоже не делали.
– А как будете испытывать основной вариант?
– Подвешивать под брюхо, товарищ Сталин. Носителей для нее пока нет.
– Почему не докладывали о ходе работ? – «Ну надо же за что-нибудь отругать!»
– Мы не думали, что вас интересуют технические детали, самолет новый, эту схему у нас еще никто не применял, кроме Никитина и Черановского. У нее есть «врожденные» недостатки: рыскливость и чувствительность к изменению центровки. С подачи Петра Васильевича, применили вычислительное устройство, которое отвечает за эти параметры в полете. Испытания на модели этих недостатков не выявили. Самолет устойчив, как по направлению, так и по тангажу. А заявленную дальность и крейсерскую скорость может обеспечить только эта схема. В классическом варианте мы теряем почти 50 % по дальности или по тоннажу. Ну, сорок, если очень постараться. Классический вариант разработан, но к постройке не приступали.
– Почему, товарищ Поликарпов?
– Малые модели очень уверенно летали. Петр Васильевич показал самую большую из них. Были еще две, но беспилотные, радиоуправляемые. Там проблем с двигателями малой мощности не было, летали они здорово, и появилась уверенность в том, что все получится. Поэтому вопрос этот даже не поднимался. Продувку проходили все, так что больших «коз» не ожидается, если сами, что-нибудь, не напортачим. Уверенность в том, что планер и система управления будут работать – есть. Дело только за двигателями и системой их управления. Но это все разрабатывается у Петра Васильевича.
– Ну, тогда поговорим о двигателе. – выразил свое мнение Сталин.
– Как можно говорить о том, чего еще нет. Есть более или менее готовый, менее мощный и менее экономичный, но заданных параметров по дальности и грузоподъемности мы с ним не получим, максимум 12 000 километров. Как аварийный вариант мы его рассматриваем и готовим. Заканчиваем тепловые и параметрические расчеты, установим форсажную камеру и двигатель будет готов где-то через два-три месяца. К сроку готовности планера, минимум один вариант, двигателя будет готов к установке на самолет, чтобы не срывать испытаний. Как основной двигатель он не годится, но других просто нет.
Сталин усмехнулся. Он, видимо, ожидал другого ответа. Привык к тому, что все и вся, быстренько и без проблем, выскакивает из цехов, как чертик из бутылочки. Последнее время все занимаются только модернизацией имеющегося парка машин. Что-то новенькое появилось – быстренько прикрутили это дело к имеющемуся образцу, и доложили, что сделана новая машина. А здесь – принципиально новая, да еще и с рекордной дальностью. И таких машин еще никто не строил. Тоска! Зеленая!
– Чито можно сделать, если все пойдет по самому плахому варианту?
– Взять Брест.
– Мы же его уже взяли?
– До Бретани мы еще не дошли.
– Вот нахал! Но с него станется! Пошлю его брать! – пригрозил пальцем Иосиф Виссарионович. – А если более серьезно? Как военный!
– Необходимо увеличить скорость проведения операций на северном, приморском направлении. Здесь, кстати, могут пригодиться «Ланкастеры» с «Х-ХМ», так как наши доблестные адмиралы не спешат выбраться из Маркизовой Лужи.
– Там серьезная минная опасность и флот находится в удручающем состоянии. А германский флот активно применяется Гитлером в акватории Балтийского моря.
– Вот и сорвать поставки морем всего и вся. Решить эту задачу нам по силам.
– А что сделано по расширению номенклатуры целей?
– Приемоиндикаторы CПИ-Р изготовлены и установлены на новые ракеты. Так что палить по площадям уже возможность есть. Радиоконтрастные цели – как само-собой разумеющееся.
– Вы сказали, что на следующей неделе вы готовы приступить к испытаниям? Можете приступать! Впредь – ежемесячный доклад о ходе работ. Постарайтесь ускорить их проведение.
– Есть.
Сталин демонстративно вынул письмо Шишкина из папки и что-то черканул на нем.
– Ступайте, работайте, товарищи Главные конструкторы.
Глава 6. Отправка матери – бабушки к месту постоянного проживания
Незадолго до этого разговора Петр проводил мать и сестер во Фрунзе. В реэвакуации в Ленинград матери отказали. Дом на набережной лейтенанта Шмидта находился в аварийном состоянии, и не был разминирован, в подвале дома лежал подарок от Гитлера и люфтваффе. Так что возвращаться было некуда. Училище имени Фрунзе, в котором работала мать, тоже не вернулось к месту дислокации, работы по специальности в городе не было. Но тут на первый завод прилетела целая делегация из Фрунзе, во главе с начальником школы майором Михаилом Кобяковым. Проблема была в чем: эта Одесская авиашкола 2-го формирования. Основной состав школы еще в 1939-м перебазировался в город Конотоп, школа была «именная»: имени Полины Осипенко, героя Советского Союза, участницы перелета Москва – Комсомольск-на-Амуре в составе женского экипажа. Вторая школа была организована на том же аэродроме и в том же здании, что и первая. Время было предвоенное, требовались летчики во вновь формируемые полки ВВС. Официально школа «принадлежала» Черноморскому флоту, но, сразу после начала войны, все учебные заведения авиации перестали делиться на сухопутные и морские. А тут ВМФ «вспомнил» о ее «морском прошлом», ну, а если серьезно, то вышел приказ об усилении подготовки летчиков морской авиации. Вот и вспомнили о ней. Да вот беда! На момент формирования летная часть имела на вооружении самолеты УТИ-1, И-5, УТИ-2, УТИ-4, УТ-2 и У-2. Во время эвакуации в Сталинграде из состава школы изъяли все «боевые» самолеты и большую часть инструкторов в два вновь формируемых полка: 651-й и 652-й ИАПы. Всех курсантов второго года обучения выпустили досрочно. Во Фрунзе школа прибыла обобранная до нитки. Плюс добирались туда почти полгода. Там ей передали УТ-2 из Алма-Аты, а боевых машин выделить не смогли, не было их. Весной 1942-го школа, наконец, получает самолеты, как учебные, так и боевые из Новосибирска: Як-7 и Як-7б. А в мае 1942-го «Яки» снимают с серии. А набор в школе – полный! 16-ть эскадрилий, более 400 человек только курсантов, которых обучают на самолеты, отсутствующие на вооружении. Прибывшей из Москвы комиссии от главного штаба ВМФ показали хорошо оборудованные классы (вывезли из Одессы), вусмерть залетанные У-2 и УТ-2 и то, что ни одного боевого самолета в училище нет, кроме «Як-7б». Комиссия доложилась в ГШФ, Жаворонков позвонил Петру:
– Петр Васильевич, выручай! – было это еще в конце мая месяца. Пришлось, после согласования с руководством, закладывать целую серию ГС-5УТИ и организовывать дополнительную смену, так как надо было освободить одну из конвейерных линий. К сентябрю месяцу заказ флота был исполнен, но «папы», перегоночные авиаполки, в том направлении не работали. У военно-морского флота было два ПАПа, 64-й и 65-й ПАП ОН, и оба гоняли самолеты из Америки. В Средней Азии выпускались только Ли-2 в Ташкенте, так что училище обязали прислать людей в центр переучивания в Стаханово, и начинать перегон самолетов самостоятельно. Перегоночная дальность позволяла прямой перелет Москва-Фрунзе, но после Актюбинска там запасных аэродромов просто не было, до самого Джамбула. В первом выпуске был и начальник школы Миша Кобяков, с которым Петр был знаком еще по Ейску, по «переучке». Он у них И-16р осваивал, и был направлен служить в Одессу инструктором. Школой командует недавно, сменил «сухопутчика» полковника Холзакова на этом посту. С ним-то и состоялся разговор о том, что хотелось бы мать и сестер пристроить.
– Преподаватель такой нам нужен, до зарезу. Мы же уже три замечания получили, что курсанты кодами не владеют. Но есть проблема, причем серьезная: она – женщина, к тому же с детьми. А, с жильем очень туго, город небольшой: пять на пять километров. А там сейчас 38 предприятий находятся, и выпускают продукцию, причем, практически, все для фронта. У меня жилого фонда еще нет. А население города выросло в два с лишним раза. До войны было 93 тысячи, сейчас 220 тысяч. Хотя, на Сталина (многострадальная центральная улица города, чаще других менявшая название) мы с пехотным училищем четыре дома строим, а пока поживет на Садовой (эти дома были построены для прапорщиков пехотного полка в 1864 году, располагались вдоль Садовой, но вход во двор был с улицы Казарменной, а весь квартал, обнесенный глинобитной стеной, в 50-е-60-е носил название: «Пентагон»), там комнаты большие, правда, кухонь нету, не для семейных строились, Волохины в той комнате живут, а они получили предписание во Владивосток, полк принимать там будет. Зам мой. Если разрешат, само-собой.
– Кто разрешить должен?
– Иванов, естественно, он нами командует.
Генерал-лейтенант Иванов, бывший начальник Качинского училища, был замкомандующего ВВС по учебным заведениям. Так как кандидатура, так или иначе, проходила через него, то я начал «двигать» Петра позвонить Владимиру Ивановичу и решить проблему. Двое суток я не давал возможности ему забыть об этом. На третьи сутки он заехал домой, предварительно позвонив туда, чтобы убедиться, что мать дома.
Та, в первую очередь, попыталась его покормить, но он сказал, что его достаточно хорошо кормят на заводе, и нет никакой надобности «объедать» остальных.
– Мам, я в курсе, что у тебя не получилось получить справку на реэвакуацию, потому, что там сейчас нет жилья и работы. Вера рассказала. Кончается август, ей требуется продолжать учиться. Документы ты так никуда и не отдала, потому, что не хочешь оставаться в Москве. Тут есть вакантное место преподавателя в Одесской авиашколе, четко по твоему профилю, ее переводят на подготовку летного состава для авиации ВМФ. Скорее всего в ближайшее время школа вернется в Одессу. Может быть в этом году, а может быть, в следующем. Ходят слухи, что могут вернуть его на Балтику. Но пока она в Киргизии, во Фрунзе.
– Опять Киргизия? В этом что-то есть… – воспоминания об этой республике у нее достаточно тяжелые. В Оше она потеряла сначала мужа, потом работу, а затем младшего сына.
– Я в курсе того, что было, мам, но оставаться здесь ты не хочешь, вернуться в Ленинград можно только после того, как от него уберут финнов…
– Что от меня требуется?
– Заявление, и съездить представиться начальнику учебных заведений, здесь в Москве, на Пироговской, 23. И переоденься в морскую форму, с орденами.
– А что говорить, если спросят: где была?
– Правду. Мобилизации ты не подлежала, в эвакуацию не попала, так как была на строительстве Лужского рубежа, пошла добровольцем в ПВО, где служила до самого списания по состоянию здоровья. Документы возьми все, в том числе, по НКВД. Училище сейчас принимает у нас самолеты, на следующей неделе туда пойдет транспортный борт, это удобнее, чем ехать поездом.
– Откажут.
– Нет, иждивенцев на руках у тебя только двое. Начальник школы – мой бывший курсант, майор Кобяков, из ВВС ВМФ. Сейчас заедем к нему, а оттуда вместе поедем в Главный штаб.
– Через десять минут буду готова.
Сейчас, став относительно большим начальником, он прекрасно понимал ситуацию с увольнением матери из погранвойск НКВД. У нее родился третий ребенок, а муж, который был ее начальником, погиб. Дама, да еще и с тремя мал-мала-меньше детишками, старшему из которых 11 лет, а младший только родился, на должности начштаба целого округа как-то не очень сильно смотрелась. Плюс трения у них были с тем человеком, которого поставили командовать вместо мужа. Формальное право уволить ее он имел, что он и сделал. Вот только он ждал, что, помыкавшись, она сама придет к нему просить за себя, а она – не пришла. И гордость не позволила, и не хотела она обращаться к этому человеку за помощью. К любому другому бы обратилась, а к нему нет. Она, не без основания, считала его виновным в смерти мужа, моего деда. Тогда она выкрутилась, с серьезной потерей: Митька не выжил, но выкрутилась. Отталкивать руку сына она не стала. Через 10 минут появилась в той форме, в которой я увидел ее в теперь уже далеком 1938-м году. Она изменилась с того времени: стала стройнее, ну это чтобы не говорить слово «худая», прибавилось морщин и седины. Прибавилось и орденов, и медалей на груди.
– Хорошо выглядишь! – сказал Петр, – Как в тот день, когда меня в училище провожала.
– Какая есть. Я – готова.
– Прошу! – Петр показал рукой на дверь.
Кобяков, который видел ее впервые, очень серьезно рассматривал ее награды и бумаги. Заявление он подписал, не задавая никаких вопросов. После этого позвонили в Главный штаб ВВС, Иванов был на месте. Это совсем рядом от Академии имени Фрунзе, в Хамовниках, на Пироговской улице. Им это здание передал Наркомстрой. Через сорок минут все втроем вошли в кабинет. Василия Ивановича Петр знал еще по Качинской школе, доводилось контактировать с ним еще до войны, когда РСИ-3М «проталкивали» на вооружение. Известный лизоблюд, он получил эту должность, хотя я ни капли не сомневаюсь, что он – один из создателей того конвейера по подготовке кадров для ВВС, который действовал всю войну и принес в ней Победу, потому, что Качинское заканчивал Василий Сталин. И, если кто и «развратил» тогда еще юного Василия, так это он, и ему подобные. И звание генерал-лейтенанта он получил именно тогда. Выручало то обстоятельство, что звания у них сейчас были одинаковыми, и Иванов знал, что Петр – его бывший подчиненный, летчик-инструктор, командир звена, сделавший головокружительную карьеру. Иванов был сама любезность, но камень за пазухой держал, попытавшись сразу увязать быструю поставку большого количества УТИ с трудоустройством матери.
– Здесь вы ошибаетесь, Василий Иванович, просто, как бывший инструктор, я хорошо помню тот хлам, на котором приходилось летать в училище. Плюс ко всему, у нас упали планы по производству боевых машин, их требуется все меньше и меньше. А рабочих надо кормить! Это был выгодный заказ для двух заводов. Мама уволилась из армии совсем недавно, чуть больше месяца назад. Мечтала вернуться домой, но в доме лежит неразорвавшаяся бомба, и он признан аварийным. А майор Кобяков четыре дня назад пожаловался, что у него три комиссии определили, что новыми способами кодирования его курсанты не владеют. Перед Вами, Василий Иванович, разработчик этих методов. А в ВВС их внедрял я.
– Ах, вот оно что! Ну, в этом случае, я напротив вашей фамилии, Евгения Владимировна, галочку поставлю, и буду иметь в виду, кто сможет толково подготовить преподавательский состав по этому курсу!
После этого «выбить» у него комнату для семейства матери было проще простого. Девочки с восторгом узнали, что они впервые в жизни полетят самолетом. Что касается Нины, то она полет с многочисленными посадками перенесла отлично, а Вера после этого написала, что лучше бы она поехала поездом. Что она не понимает, зачем брат выбрал эту профессию. Справиться со своими внутренними органами при «болтанке» она не сумела. Больше самолетами не летала, лет двадцать.
Я, конечно, понимал, что делаю глупости. Матери сейчас всего 13 лет, и живет она отдельно от отца, директора завода имени Ленина, эвакуированного из Луганска во Фрунзе. Крупнейшее предприятие города, плюс у него еще три «спутника» развернуты на территории республики. Все строил дед. Место было удобное: большие месторождения свинца (и урана), меди, неподалеку. И азотный завод на той же ветке ж/д. Выпускали унитарные выстрелы для нужд РККА, всю номенклатуру от 7,62 до 85 мм. В конце войны начали «сотки» делать. Дед прибыл туда из шарашки, на заводе, где он работал главным инженером, в Омске, взрыв произошел «из-за нарушения норм безопасности». Упала женщина, переносившая гремучую ртуть для капсюлей. Сдетонировал склад с инициирующими ВВ. Так как он туда только приехал и писал о нарушениях, и в наркомат, и парторганы города и области, то расстрел ему заменили на 10 лет. Народу много погибло. Во Фрунзе он прибыл под конвоем в июле 1941-го, на должность главного инженера, через месяц стал директором, но без освобождения от конвоя. Зимой 1942-го его расконвоировали: завод выдал продукцию, а как только завод вышел на плановый выпуск боеприпасов, то сняли судимость и наградили ТКЗ (Трудовым Красным Знаменем). Мать, собственно, почему в селе оказалась: это в 52-м было, перед днем Победы, на завод приехал лектор от ЦК КПСС, который прочел рабочим лекцию о том, почему СССР победил Германию, и обязательно победит в новой холодной войне. Ну, работяги ему поаплодировали, а так как товарищ был из Москвы, то его к столу пригласили, где дед, не удержавшись, дал тому совет, что когда он выступает на оборонных предприятиях, то для пущего эффекта, требуется упоминать заслуги «инженерного корпуса СССР», без усилий которого победа была бы невозможной. Некоторое право на это он имел: Сталинскую премию он получил вместе с академиком Кошкиным за создание роторно-конвейерной линии сборки унитарных боеприпасов. Благодаря ее внедрению, РККА не имела «патронного» и «снарядного» голода в ту войну. 15-ть таких линий работали во Фрунзе. Лектор полез в бутылку, доказывая, что его лекция утверждена в каком-то отделе ЦК партии. Тогда дед выложил из кармана три кружка латуни: большой, средний и совсем маленький.
– Вот, держи! Сделай из этого, непрерывным методом, патрон. Хотя бы один! Это – входящие заготовки. На выходе формируются пачки, их укладывают в цинки и запаивают, или закатывают в банки. В количестве миллионов штук. Не можешь? Тогда не звезди, а то твою лекцию смешно слушать. За Победу!
Через неделю его отстранили от руководства заводом и до марта 1953-го он находился под следствием. До суда дело не дошло, его освободили, увязав дело со смертью вождя. А он-то какое отношение к этому имел? Кто там у нас рукой водили в отделе пропаганды? Товарищи Суслов и Михайлов! Под общим управлением Хрущева. Так как «освобождение» прошло под «амнистией», то в Министерство сельскохозяйственного машиностроения, как теперь назывался Наркомат боеприпасов, дед не вернулся. (Стал директором физико-химической спецшколы № 25. Заканчивал он «Техноложку» в Ленинграде и стажировался в Германии на заводах «ИГ-фарбениндустри». Знаменитая фирма!) Хотя разрабатывал и изготовлял взрыватели для «слойки Сахарова», делал первую термоядерную бомбу. Поэтому мама, вместо ВТУЗА при заводе, от которого имела направление в университет, золотая медалистка, с красным дипломом, была распределена в аул в 80 километрах от Пржевальска, где проживала ее мать, «отказавшаяся» от мужа-«врага народа», еще в 38-м. Их туда вывез дед, Илья Николаевич, сразу, как освободился от конвоя. И сумел дать высшее образование обоим дочерям. Оно тогда бесплатным еще не было.
В любом случае, им там сытнее будет! «Ташкент – город хлебный»!