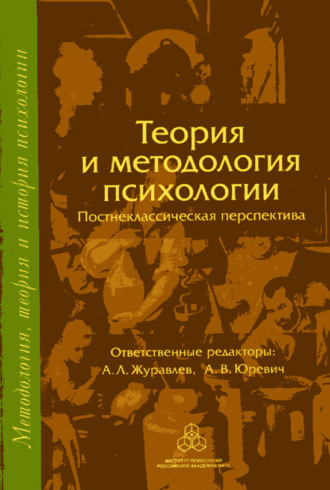
Коллектив авторов
Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива
Таким образом, критическая дискуссия в философии науки, с одной стороны, и развитие методологии гуманитарных наук, связанное с нарратологическим, культурологическим и постмодернистким «поворотами», с другой стороны, привели к неизбежности методологического переоснащения психологии. Наш наш взгляд, это переоснащение в целом укладывается в понятие «постнеклассической рациональности»9.
Методологические установки, проистекающие из постмодернистской критики, такие как релятивизм (множественность интерпретаций, принцип «методологического сомнения) и культурная аналитика (все видится как текст и предполагает анализ текста), нашли отражение в проектах культурной психологии Р. Шведера и Дж. Миллер. Другим плодом постмодернистской критики оказались направления социального конструкционизма, ярким выразителем которого стал К. Джерджен. Социальный конструкционизм основывается на следующих теоретических положениях: 1) знания и психологические процессы контекстуально обусловлены; 2) понимание – совместная деятельность людей, ведущая к конструированию миров; 3) истина – не в эмпирической обоснованности, а в эволюции социальных процессов; 4) модель мира задается исторически преходящими видами деятельности и формами социального действия (Джерджен, 1995). Сила постмодернистского дискурса в целом проявляется в его критическом потенциале. Постмодернистская мысль открывает для психологии перспективы критического самоосмысления (Gergen, 1994). К. Джерджен также обосновывал необходимость рефлективной установки по отношению к процессу получения знания самим исследователем. И это – общая черта социального конструкционизма и постнеклассической рациональности.
К. Джердженом были выделены две основные методологические установки, лежащие в основе тех или иных концепций: представления об (1) экзогенной или (2) эндогенной природе знания. Первую установку разделяли Дж. Локк, Д. Юм и позитивисты, из второй предпосылки исходили И. Кант, Ф. Ницше и феноменологи. Но конструкционизм не следует ни одной из этих традиций, принципиально отказываясь от дихотомии объекта и субъекта. И здесь мы обнаруживаем его очевидное пересечение с идеями М.М. Бахтина и М. Бубера. В свою очередь, коммуникативная концепция рациональности сближает К. Джерджена с Ю. Хабермасом. Много общего также обнаруживается в представлениях К. Джерджена и П. Фейерабенда. Истина и достоверность знания, согласно К. Джерджену, не могут быть подтверждены ни эмпирическим путем, ни следованием определенному методу. «В этом смысле пригодной может оказаться любая методология – до тех пор, пока она позволяет аналитику углубляться во все более сложные обстоятельства (курсив мой.– М.Г.)» (Джерджен, 1995, с. 71).
Методология К. Джерджена, на наш взгляд, представляет собой образец постнеклассической рациональности в психологии. Так, разрабатываемая им новая методологическая парадигма предполагает: 1) интеграцию теоретических и прикладных исследований посредством применения психологического инструментария для решения текущих социальных проблем (социальная аналитика); 2) переход от установок прогнозирования к повышению социальной восприимчивости посредством психологического «просвещения» общества (т.е. распространение знания становится катализатором социальных процессов); 3) поиск «социальных индикаторов», реагирующих на «психологические сдвиги» (и, продолжим, – «психологических индикаторов», регистрирующих сдвиги социальные); 4) поиск методов, позволяющих дифференцировать социальные феномены по степени их исторической стабильности; 5) междисциплинарный дискурс, внимание к стратегиями и навыкам профессиональных историков, интерес к культурным контекстам (Джерджен, 1995).
Согласно К. Джерджену, ни логические доказательства, ни эмпирические методы не в силах служить подтверждением теории, поскольку все замки теорий строятся на зыбком песке постулатов, сложившихся в результате социальных конвенций. А всякое социально‐психологическое исследование есть, прежде всего, исследование историческое. Так, социальная психология для автора концептуализируется как идиографическая наука, поскольку в ней не существует универсальных закономерностей, а есть сеть взаимоотношений и исторически изменчивых контекстов.
Трудно не отметить определенные параллели между социальным кострукционизмом и концепцией Л.С. Выготского (но существуют и различия, обусловленные как раз неклассической и постнеклассической рациональностью; подробнее об этом см.: Гусельцева, 2004). И это еще раз подтверждает тот факт, что многие современные эпистемологические идеи разрабатывались отечественными гуманитариями начала ХХ в. «В некотором смысле,– пишет С. Квэйл,– советская культурно‐историческая школа после Выготского и теория деятельности Леонтьева и Давыдова близки к социальному конструктивизму, особенно в диалектических отношениях человека и мира и исторической и культурной обусловленности деятельности» (Kvale, 1994, р. 46).
В свою очередь, С. Квэйл замечает, что академическая психология все еще мыслит в понятиях Просвещения. В центре «модернистской психологии» лежит образ рационального человека. Постмодернизм же связан с невозможностью систематической теории и связной философии, но занят диагностикой и интерпретациями состояния настоящей культуры, изображением множественной взаимосвязанности феноменов (Kvale, 1994). С. Квэйл полагает, что основной проблемой парадигмы модернизма (неклассической рациональности) являлась дихотомия универсального и индивидуального. В постмодернистском дискурсе таких дихотомий нет. «Постмодернистская мысль фокусируется на гетерогенности языковых игр, <…> на разрывах и конфликтах» (там же, р. 34). «Фокус на языке предполагает децентрацию субъекта», индивидуальность становится медиумом культуры и языка (там же, р. 36). Согласно С. Квэйлу, дихотомии «индивидуальное – универсальное», «субъективное – объективное», «культурное – природное» и т. п. находят свое разрешение в конкретности локальных контекстов, и поэтому психологии следует перейти от количественного к качественным видам анализа.
Немало современных авторов разделяют эпистемологический подход К. Джерджена, в котором очевиден приоритет социальных и лингвистических влияний над природными нуждами. Все большую роль в психологических исследованиях начинает играть культура, культурный контекст. Внимание психологов обращается к нарративу (см.: Bruner, 1985; Larsen, 1999; Michael, 1994; Sherwood, 1994). Так, для Д. Ларсен психология представляет собой повествовательную дисциплину. Она рассматривает все психологические теории как истории или повествования (story), поскольку в них находит отражение как жизненный опыт авторов, так и культурно‐политический контекст. В качестве примеров влияния биографии на теорию автор рассматривает логотерапию В. Франкла и радикальный бихевиоризм Б. Скиннера (Larsen, 1999). Повествования имеют как структурное сходство, берущее исток из общечеловеческого опыта, так и значительные различия. Понимание психологических теорий как историй дает методологическое обоснование эклектизму. Эклектизм, согласно Д. Ларсен, предоставляет средства (tools) для исследования повествовательных альтернатив и тем самым делает наше сознание более либеральным и защищенным от давления линейных историй.
Не менее внушительным источником перемен в психологической эпистемологии стал и «лингвистический поворот». Философ Г. Гадамер и литературовед С. Фиш в своих работах показали, что не столько текст доминирует над читателем, сколько читатель властвует над текстом (Gergen, 1994). В свое время А.А. Потебня отмечал, что в процессе понимания мы не воспроизводим, а творим значение слова (значит, есть внутренние «линзы»‐исказители – и в этом искажении суть индивидуальности), но эта мысль в психологии осталась практически незамеченной. В концепции Т. Куна также была высказана идея о «линзах» (своего рода функциональных органах мировосприятия), посредством которых ученые смотрят на мир. В ХХ в. С. Фиш доказал, что текст не имеет единственной или «истинной» интерпретации, и каждый читатель воссоздает свой текст, являясь своего рода «соавтором». Множественность интерпретаций стала методологическим принципом постмодернизма.
Причем и постмодернизм в целом представляет собой не столько систему, сколько интерпретацию10. Между субъектом познания и объективным миром всегда имеется посредник – язык (Kvale, 1994). Деконструктивистская теория Ж. Деррида, «нарратологическая парадигма», пришедшая из истории, работы М. Фуко, исследования этнографов и антропологов привели к «ренессансу в изучении риторики» (Gergen, 1994). Особенно эвристичными для психологии оказались традиции семиотического анализа (в отечественной культуре они связаны со школами М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана).
Разновидностью семиотического анализа является «деконструкция» Ж. Деррида. Будучи наукой с обостренным комплексом методологического сомнения, чуткой к социокультурному контексту, психология нашла чем обогатиться в творчестве Ж. Деррида, тем более что в психологии происходит смена ориентиров от естествознания к герменевтическим наукам, а Ж. Деррида – один из современных французских философов, оказавших значительное влияние на методологические поиски гуманитарных наук.
Согласно Ж. Деррида, реальность дается нам в виде текста; наше восприятие реальности опосредовано текстами. Для освобождения из‐под власти текстов им была изобретена особая процедура – «деконструкция». (Заметим, что процедура конструирования «функциональных органов» видения вполне в духе Э. Гуссерля11, но если Э. Гуссерль выносил мир за скобки, чтобы найти чистую субъективность, то Ж. Деррида заключает в кавычки слово, чтобы взглянуть на него новыми глазами.) Причем сам термин «деконструкция» возник, когда этот автор стремился воссоздать во французском языке понятие М. Хайдеггера12. Деконструкция есть то, что происходит при переводе от одного языка к другому – разрушение старого смысла и обретение нового, ведь «вещи меняются от одного контекста к другому» (Деррида, 1992, с. 53).
В «Письме японскому другу» Ж. Деррида пытается донести до исламолога Т. Идзуцу смысл слова «деконструкция» с целью его перевода на японский язык. Деконструкция – не критика, разве только в том смысле, что она – критика в форме рефлексии. Деконструкция – не анализ, разве только в том смысле, что она – аналитика. Деконструкция – не метод, потому что ее нельзя воспроизвести, каждый раз деконструкция возникает заново как неповторимое творческое усилие.
На наш взгляд, деконструкция представляет собой способ «археологической» работы с текстами. Процедура деконструкции заключается в снятии слоев языка, установление связей («перекличек») текста с другими текстами. Текст для Ж. Деррида – сложное, неоднородное образование, и исследователь должен обнаружить в нем следы различных наслоений, связанных с особенностями культуры и личности.
Свой метод деконструкции Ж. Деррида впервые сформулировал в работе «Грамматология», состоящей из двух частей (в первой части автор знакомит читателя со своими понятиями и способом исследования; во второй – осуществляет показательный опыт исследования определенной культурной эпохи – творчества Ж.‐Ж. Руссо). Культурная эпоха для автора – это текст, а способ ее исследования превращается в процесс «чтения». Особенно важно для такого «чтения» не пользоваться готовыми понятиями истории науки, поскольку они понуждают наше сознание следовать привычными тропами.
Имеет ли это значение для психологической практики? Представим, что личность – это текст, а ее исследование – процесс чтения, и что техники, которые мы уже освоили, не годятся, а должны выстраиваться в самом процессе чтения (в процессе коммуникации отыскиваются адекватные приемы). Так, многие авторы указывают на сходство методологии постмодернизма и современной психотерапевтической практики13.
Одним из тех, кто основательно исследовал применение постмодернистской эпистемологии в психологической практике, стал Д. Полкингхорн. Он утверждает, что психология в качестве академической дисциплины переносит на изучение человека эпистемологические принципы эпохи Просвещения. Но современные психотерапевты не находят для себя пользы в абстрактных психологических теориях. Цель психотерапевтической практики – помочь клиенту преодолеть духовные травмы и предоставить ему власть над собой и свободу. Для адаптации академической психологии к изменившейся культурной реальности необходимо сменить «нарратив». И эти перемены стимулируются психологической практикой. Д. Полкингхорн описывает «практический поворот» в психологии и сравнивает методологию постмодернизма и практической психологии. В результате такого сравнения были выделены общие черты постмодернизма и психологической практики, такие как нефундаментальность, фрагментарность, конструктивизм, неопрагматизм. Также этот автор отмечает, что психотерапевты и близкие к практике психологи‐исследователи охотнее применяют постмодернистскую методологию, нежели академические психологи. Практикам более свойственно понимание знания как динамичного и зависимого от контекста, фрагментарного и конструируемого («second body of knowledge») (Polkinghorne, 1994).
В целом тенденцию смены эпистемологических парадигм можно сформулировать так: от психологии как науки об универсальных законах следует перейти к психологии как науке об исключениях. Так, С. Квэйл отмечает, что большинство психологических теорий ищет общие законы, тогда как гуманистическая психология сосредоточивается на «самости» (self), помогая конкретному человеку постичь собственную логику внутреннего развития, разгадать уникальный узор судьбы (Kvale, 1994). Этой же цели служит и Dasein‐анализ (см.:
Лаврухин, 2001). Тем не менее, к недостаткам гуманистической психологии относится игнорирование ею социокультурных и локальных контекстов развития (Kvale, 1994). По‐видимому, соединение традиций гуманистической и культурной психологии может стать порождающим контекстом для методологического преобразования всей психологической науки. Заметим также, что децентрализация субъективности в постмодернизме выступает своего рода противовесом «я‐центризму» и абстрагированности психологических концепций. Зачастую психологические концепции напоминают «мир идей» Платона – они статичны, идеальны и предельно абстрактны. Возможно, постмодернистская «встряска» способна их оживить.
Обсуждая возможности постмодернистской психологии, исследователи указывают на известные трудности представления нового стиля мышления в старых категориях. Так, С. Квэйл отмечает, что гетерогенность разделов сборника «Психология и постмодернизм» являет собой определенный вызов современному ландшафту психологической науки. Постмодернистский дискурс гетерогенен, и историческим примером подобного дискурса являются тексты С. Кьеркегора. Это недирективный авторский стиль, полный парадоксов, предполагающий множество перспектив его топики (Kvale, 1994).
Психика понимается постмодернистами как орган субъективности, что само по себе не исключает корректного исследования, поскольку объективности скорее можно достичь посредством диалога, коммуникации и конвенции, чем отражением (искажением) реальности при помощи разума. Интерсубъективность здесь становится критерием истинности. С другой стороны, поскольку каждому субъекту картина мира открывается из его уникально‐бытийной перспективы видения, то всякая авторская теория несет свою истину. Любая теория есть конгломерат истин и заблуждений, поскольку с иной социокультурной позиции видению открываются иные горизонты. И в этом – залог динамики науки, осуществляемой при помощи полемики и диалога. Истина всякого текста, согласно постмодернизму – в его искренности и убедительности. Язык – не столько отражение, сколько конструирование мира. Личность (self) в постмодернистском понимании есть плод социальных коммуникаций и конструкция. Феномен множественности Я трактуется как обусловленный разнообразием этих коммуникаций (см.: Gemin, 1999; Rappoport, Baumgardner, Boone, 1999; Slife, Fisher, 2000).
Движение от антипозитивистской к постмодернистской фазе развития принесло в психологию решительные изменения. Новые подходы расширили предметную область психологии и способствовали ее экспансии в исторические и культурные контексты. Однако если 70‐е годы ХХ в. характеризовались выходом на авансцену модернизированного психоанализа, гуманистической психологии и критической психологии, то в 1980‐е годы психологические дисциплины ушли с главной сцены обсуждения. Специфика современной психологии связана с дезинтенграцией в самих ее основах. Особенно зримо увеличился разрыв между академической психологией и профессиональной практикой (Psychology and Postmodernism, 1994). В целом же гносеологическая динамика в социально‐психологической науке выглядит следующим образом: от абстрактного, универсального и объективного знания – к знаниям социально полезным и локальным; от психологии когнитивных процесссов – к эпистемологическим исследованиям природы знания. Делается акцент на ситуативных, перспективных знаниях, на ценностях. Большую роль в психологии начинают играть экзистенциальные и культурно‐исторические школы, междисциплинарные исследования. Широко осваиваются мультиметодологический, герменевтический, нарратологический, деконструктивистский подходы (см.: Fox, 1994; Hepburn, 1999; Holzman, 1999; Gemin, 1999; Larsen, 1999; Richer, 1994; Steenbarger, 1993).
Показательно, что участники дискуссии так и не смогли прийти к единому мнению. Если К. Джерджен, Дж. Шоттер, М. Микаел и Д. Полкингхорн полагают, что постмодернистский дискурс ведет к мета-теоретической реконцептуализации предметного содержания психологии и этим открывает перед ней новые перспективы, то С. Чейклин оспаривает само понятие постмодернистской эпохи и заявляет, что голословные утверждения о вовлечении психологии в постмодернизм сомнительны (более перспективными С. Чейклин считает междисциплинарные исследования в культурной психологии); Л. Сэс полагает, что релятивизм и фикционализм постмодернизма способны нанести вред в терапевтическом отношении, поскольку превращают реальную историю жизни пациента в нарратив («как если бы»), а П. Мэдсен обеспокоен тем, что постмодернизм может послужить идеологической мистификацией потребительского капитализма (Psychology and Postmodernism, 1994).
В целом авторы, поддерживающие междисциплинарную открытость психологии, видят будущее науки за социокультурными и постмодернистскими исследованиями (Keller, Greenfield, 2000). Однако нельзя сбрасывать со счетов и доводы критиков проникновения постмодернистского дискурса в психологию. Так, Г. Хатано обращает внимание на три существенных изъяна постмодернисткого дискурса, которые, на его взгляд, представляют опасность для культурной психологии: 1) пренебрежение индивидуальной ролью личности в инновациях; 2) игнорирование реальности в социальном конструировании знания; 3) неудачные попытки связать локальные практики с практикой в универсальном смысле (Hatano, 1999). Й. Паркер отмечает, что произведения постмодернистов ведут к переосмыслению проблем, касающихся природы человеческого сознания, личностной целостности и языка, но под влиянием постмодернизма происходит размывание психологических понятий, и игровые теоретические рефлексии нередко уводят от реального состояния дел в психологии (Parker, 1998). С ним солидарна М. Смит, критикующая постмодернизм за модный стиль метатеории, который отражает современные угрозы личности, но парализует желание с ними справляться (Smith, 1994). Б. Хелд критикует практиков за излишнее увлечение теоретическими проблемами в психотерапии (Held, 1995), а М. Бэдер убежден, что конструкционизм и перспективы интерсубъективности отвлекают психологию от прагматических ориентаций, а идеализация неопределенности отбивает у клиницистов охоту стремиться к большей точности и чистоте понимания (Bader, 1998).
Не могут быть обойдены вниманием и другие негативные стороны постмодернизма. Так, Г.Л. Тульчинский справедливо говорит о безответственности постмодернистского дискурса, об отказе от «слова как поступка» (Тульчинский, 2002, с. 30). Иными словами, постмодернизм, как кусачая собака, адекватен на авторском поводке. Ответственность вынесена за скобки постмодернизма, но это означает, что она априорно должна присутствовать у автора (субъекта). Постмодернизм хорош как «приправа к блюду», но самого «блюда» заменить он не может. «Блюдо» должно быть изначально приготовлено.
Заметим также, что Г.Л. Тульчинский говорит о постмодернизме вообще, не указывая, какую именно его авторскую версию он имеет в виду. Так, Х. Кюнг трактует духовные изменения, связанные с постмодернистской парадигмой, более оптимистично: «Если раньше предпочтение отдавалось развитию таких качеств человека, как усердие, <…> любовь к порядку, основательность, пунктуальность и работоспособность, то теперь гораздо большее значение приобретают человечность, сила воображения, эмоциональность, душевная теплота, нежность. Замечается углубленный интерес к самопознанию и самоосуществлению личности, повышенная чувствительность и обостренное восприятие тонких и хрупких межличностных отношений и связей, чуткость к восприятию социальных проблем, забота об окружающей среде обитания, растущая убежденность в необходимости общеобязательной этики в интересах выживания человечества. Происходит <…> не утрата ценностей, а их изменение» (Кюнг, 1990). М. Серр подчеркивает, что в постмодернистской эстетике есть трепетность и бережность по отношению к миру.
Итак, мы проследили за развитием познавательной ситуации в современной западной и американской психологии, отвечающей на «вызов» эпохи постмодерна. Однако те темы, к которым пришла зарубежная психология в связи с постмодернистским состоянием культуры, а именно, увеличение удельного веса эпистемологических дискуссий и интерес к историческим и культурным контекстам, к герменевтике и феноменологии, к междисциплинарным связям, уже были в активной разработке отечественных исследователей нашего Серебряного века, в работах М.М. Бахтина, П.М. Бицилли, Н.И. Кареева, Л.П. Карсавина, А.А. Потебни, Н.В. Теплова, Г.Г. Шпета и др. Аналогичным образом, современное направление в исторической науке Запада – история повседневности – предвосхищалось в работах отечественных медиевистов (см.: Оболенская, 1990; Ястребицкая, 1991)14.
Таким образом, вполне справедливо наблюдение Г.Л. Тульчинского о том, что определенные интеллектуальные приемы (например, деконструкция) существовали и до постмодернизма, но под другими именами (Тульчинский, 2002). Добавим, что в отечественной культуре предтечей Ж. Деррида и Р. Барта (структурно‐семантического анализа) был М.М. Бахтин; предтечей С. Фиша – А.А. Потебня. Г.Г. Шпет и М. М. Бахтин развивали также идеи единства внешнего и внутреннего, индивидуального и социального. А экологический смысл «децентрации субъекта» как антитезы антропоцентризму прочитывался в учении о ноосфере В.И. Вернадского.
Сверхрефлексивность и «истинность‐искренность» постмодернизма проявляются в том, что, перепрочитывая автора сквозь «линзы» своего времени и своих внутренних установок, постмодернизм не скрывает, что это «Дильтей и как бы не Дильтей», «Выготский и как бы не Выготский». В этой логике современные конструкционисты пере-прочитывают также и В. Вундта (см.: Kroger, Scheiber, 1990).
Постмодернизм подчеркивает свой авторский взгляд на тексты, принципиально отказываясь от «объективности». Словно воспроизводя известную процедуру З. Фрейда (прохождение психоанализа психоаналитиками), постмодернизм стремится к истине, начиная рефлективную работу с себя, выявляя, через какие установки и ценности интерпретатор сам смотрит на мир.
Постмодернизм возвращает в психологию методологический принцип субъектности – «легализует субъективный опыт» (А.В. Юревич). Однако мало понимать, что наши теоретические построения пристрастны, проективны – надо научиться осознавать диапазоны применимости своих теорий и то, где лучше работают совсем другие теории. Эту развивающую работу над собой проделывают отечественные культурологи, следующие традиции М.М. Бахтина15. Коммуникативная рациональность стала изначальной методологией и практикой работы культурологов. Но и в психологии были предприняты попытки «легализации» коммуникативной рациональности. Так, М.Г. Ярошевский привнес в психологию понятие «оппонентный круг», неявным контекстом которого являлась необходимость критики, наличие конкурирующих теорий. «Встать над схваткой» в постнеклассической рациональности означает прирастить дополнительное измерение (как в задаче‐головоломке – выйти из плоскости в пространство). Потому что, как учит история физики, когда есть две противоречащие теории – это шаг к созданию третьей, включающей их в себя как частные случаи.
* * *
Хотим мы того или нет, но постмодернизм – это эпоха, в которой мы все живем. И постмодернистский дух все равно будет просачиваться в психологию, как он проник в литературу, искусство, философию, религию, быт…
Прочтение постмодернизма современной психологией – дело сколь эвристическое, столь и ответственное. К находкам постмодернизма относят метафоричность дискурса, синкретичность мысли, принципиальную недоконцептуализированность понятий, творчество терминов, эксперименты со стилем. Что же касается отрицания постмодернизмом автора, субъекта, то и в этом можно найти здравый смысл. Постмодернизм демократичен, он стирает грани между вещами, между старым и новым, низом и верхом, отменяет иерархии. Это мироощущение, это жизненный стиль, в котором нет различий между молодым ученым и маститым мэтром. Важна идея, фраза, а не то, кто ее сказал. В пространстве постмодернизма между собой состязаются тексты и мысли, а не авторы (научный вес которых различен, а следовательно, определенным образом работают и силы тяготения в науке). Постмодернизм, делая акцент на тексты, протестует против существующего несовершенства мира. Постмодернизм этически чист, поскольку выносит за скобки склоки, дрязги, амбиции, «человеческое, слишком человеческое». Постмодернизм, перефразируя Б.Л. Пастернака,– это скоропись культуры в эпохи ее разрывов.
ЛИТЕРАТУРА
Автономова Н.С. Деррида и грамматология // Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
Азроянц Э.А., Харитонов А.С., Шелепин Л.А. Немарковские процессы как новая парадигма // Вопросы философии. 1999. № 7. С. 94–104.
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.
Брунер Дж. Празднуя разнообразие: Пиаже и Выготский // Вопросы психологии. 2001. № 4. С. 3–14.
Гусельцева М.С. Методологические предпосылки и принципы развития культурной психологии // Методологические проблемы современной психологии. М.: Смысл, 2004. С. 82–101.
Джерджен К.Дж. Движение социального конструкционизма в современной психологии // Социальная психология: саморефлексия маргинальности. Хрестоматия / Ред.‐сост. Е.В.Якимова. М.: ИНИОН РАН, 1995. С. 51–73.
Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000.
Деррида Ж. Письмо японскому другу // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 53.
Иванов В.В. Классика глазами авангарда // Иностр. лит. 1989. № 11. С. 226–231.
Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000.
Карасев Л.В. Сегодня и завтра // Постмодернизм и культура (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1993. № 3. С. 3–16.
Керимов Т.Х. Постмодернизм // Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. Лондон, Франкфурт‐на‐Майне, Париж, Люксембург, М., Мн.: ПАНПРИНТ, 1998. С. 668–675.
Кюнг Х. Религия на переломе эпох // Иностр. лит. 1990. № 11. С. 223–229.
Лаврухин А.В. К истории формирования методологии Dasein-аналитической психологии // Dasein‐анализ в философии и психологии / Под ред. Г.М. Кучинского, А.А. Михайлова. Мн.: ЕГУ, 2001. С. 51–93.
Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.
Оболенская С.В. «История повседневности» в современной историографии ФРГ // Одиссей: Человек в истории. М.: Наука, 1990. С. 182–198.
Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: Учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2001.
Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология // Новые перспективы свободы и рациональности. СПб.: Алетейя, 2002.
Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1997.
Харре Р. Метафизика и методология: некоторые рекомендации для социально‐психологического исследования // Социальная психология: саморефлексия маргинальности / Ред.‐сост. Е.В. Якимова. М.: ИНИОН РАН, 1995. С. 74–93.
Чучин‐Русов А.Е. Новый культурный ландшафт: постмодернизм или неоархаика? // Вопросы философии. 1999. № 4. С. 24–41.
Эко У. Имя Розы. Роман. Заметки на полях «Имени Розы». Эссе. СПб.: Симпозиум, 1997.
Юнг К. Йога и Запад: Сборник. Львов: Инициатива; Киев: Airland, 1994.
Юнг К. Синхронистичность: акаузальный объединяющий принцип. М.: Рефл‐бук, 1997.
Якимович А.К. О лучах Просвещения и других световых явлениях (Культурная парадигма авангарда и постмодерна) // Иностр. лит. 1994. № 1. С. 241–248.
Ястребицкая А.Л. Повседневность и материальная культура средневековья // Одиссей: Человек в истории. М.: Наука, 1991. С. 84–102.
Bader M.J. Postmodern epistemology: The problem of validation and the retreat from therapeutics in psychoanalysis // Psychoanalytic‐Dialogues. 1998. V. 8(1). Р. 1–32.
Bell D. Notes on the Post‐Industrial Society // The Public Interst. 1967. № 6. P. 24–35. № 7. P. 102–118.
Bruner J.S. Narrative and paradigmatic modes of thought // Learning and teaching the way of knowing / Ed. F. Eisner. Ch.: Chicag. Univ. Press, 1985.
Cazenave M. Jung et la modernite, une introduction // Cahiers‐Jungiens‐de‐Psychanalyse. 1994. № 80. Р. 95–99.
Chaiklin S. From Theory to Practice and Back Again: What does Postmodern Philosophy Contribute to Psychological Science? // Psychology and Postmodernism / Ed. by S. Kvales. London: Sage Publications, 1994. P. 194–208.
Combs G., Freedma J. Milton Erickson: Early postmodernist // Ericksonian methods: The essence of the story / Ed. J.K. Zeig. N.Y.: Brunner/Mazel, 1994. P. 267–281.
Dimen M. The Third Step: Freud, the feminists, and postmodernism // American Journal of Psychoanalysis. 1995. V. 55(4). P. 303–319.
Fox N.J. Postmodernism, sociology and health. Buffalo: University of Toronto Press. 1994.
Hatano G. Is cultural psychology on the middle ground or farther? // Human‐Development. 1999. V. 42(2). P. 83–86.


