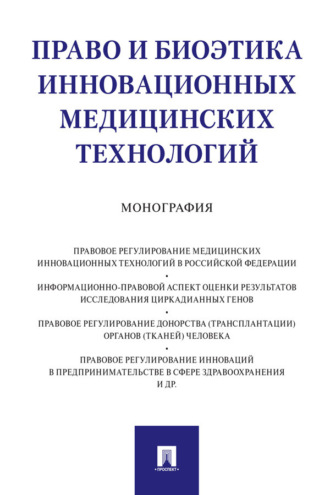
Коллектив авторов
Право и биоэтика инновационных медицинских технологий
Предусматриваются и меры обеспечения радиационной безопасности пациентов. Только лечащий врач может принять решение о необходимости проведения радиодиагностического исследования. Решение должно быть обоснованным, о чем делается соответствующая запись в амбулаторной карте или в истории болезни. Если лечащий врач выдает направление на процедуру, то обоснование может быть оформлено в данном направлении (когда карта или история болезни не передается вместе с пациентом). Однако ответственность за проведение радиодиагностического исследования несет врач-радиолог, проводящий эту процедуру. Если врач-радиолог посчитает, что отсутствует обоснование для процедуры, то он должен отказаться от ее проведения. Именно врач-радиолог для каждого пациента выбирает наиболее подходящий РФП, методику процедуры, а также наименьшую возможную активность РФП исходя из того, чтобы достоверная диагностическая информация была получена при наименьшей эффективной дозе облучения пациента. Врач-радиолог принимает окончательное решение о типе и методике процедуры [33].
Пациент имеет право отказаться от проведения исследования, за исключением радиодиагностических исследований, проводимых с целью выявления эпидемиологически опасных заболеваний.
Основные задачи российской ядерной медицины видятся в следующем:
– модернизация действующих отделений и РНД, и РНТ;
– импортозамещение в указанных сферах;
– производство отечественных РФП;
– создание Центров ядерной медицины (следует учитывать, что в значительном числе субъектов РФ такие центры не созданы);
– создание специализированных отделений РНД и РНТ.
Помимо организационных моментов и выделения финансовых средств на развитие ядерной медицины необходимо разработать специальные положения о РНД и РНТ, которые должны быть утверждены Министерством здравоохранения РФ. Необходимо разработать специальные стандарты и порядки оказания медицинской помощи по тем группам заболеваний, по которым предусматривается использование РФП. Необходимо разработать специальные программы повышения квалификации врачей-радиологов, а также стимулы привлечения в данную отрасль молодых специалистов.
На фоне отсутствия надлежащей правовой базы, обеспечивающей развитие инновационной медицины, можно наблюдать следующие негативные элементы.
1. Использование слабой информированности граждан о новых технологиях в спекулятивных меркантильных целях. Этому способствует также распространение фейковых (как сейчас это модно говорить) новостей, а также излишний ажиотаж вокруг действий медиазвезд. Достаточно было киноактрисе вынести на суд публики свою предрасположенность к раку груди и последовавшую операцию по удалению молочных желез, как в мире выросло число желающих повторить путь кинодивы. Появляются и организации, предлагающие услуги по расшифровке генотипа, рекламирующие доступность своих услуг. В России тоже есть этому примеры [34].
2. Систематизация огромного массива информации о здоровье граждан чревата негативными последствиями. Во-первых, присутствует значительное число заинтересованных лиц, желающих получить доступ к указанным персональным данным. От банковских и страховых организаций до потенциальных работодателей. Во-вторых, появление электронных площадок, на которых происходит генерирование медицинских данных о гражданине, подрывает авторитет врачебной тайны, основанной, прежде всего, на личном контакте пациента с медицинским работником. В странах Западной Европы растет число желающих отказаться от электронной карты, которая может стать всеобщим достоянием. Если ранее врачебная тайна гарантировалась индивидуальной беседой, то сейчас все прекрасно понимают: данные, ушедшие в Сеть, рано или поздно могут быть раскрыты. Указанные опасения усиливаются при утечках информации (примеры которым можно наблюдать во всех странах мира). И наказание виновных не может служить гарантией добросовестного исполнения всеми жестких правил соблюдения медицинской тайны.
3. Использование достижений в области современной медицины для решения социальных целей. На слуху большинства граждан термин «биокриминология», получивший (отчасти незаслуженно) негативную оценку. Многие ассоциируют ее с евгеникой, расовой дискриминацией и иными явлениями, зарекомендовавшими себя с отрицательной стороны. Внедрение социальных различий на основе биологических характеристик человека происходит и в настоящее время. Приведем в качестве примера психологическое тестирование, которое практикуется при приеме на работу. Психолог дает определенные рекомендации, которые учитываются работодателем при отборе кандидатов. Подобное ранжирование не вызывает сильного отторжения, поскольку может быть преодолено и компенсировано иным механизмом сдержек злоупотреблений. Иное дело, когда ранжирование может идти от генетических характеристик, появляющихся с рождения. Подобную ситуацию можно экстраполировать и на методы борьбы с противоправным поведением. Выявление «гена преступника» будет означать социальное клеймение человека лишь за потенциальную склонность к агрессии.
4. Усиление социального контроля с помощью манипулирования медицинскими данными. Нельзя забывать о таком понятии, как общественное здравоохранение, приобретающем новое звучание с учетом обработки огромных объемов информации. Систематизация генетических данных о населении позволит манипулировать им, навязывая ту или иную модель социального поведения. От мягких рекомендаций по укреплению здоровья (что следует поддержать) до управления ценовой политикой в отношении лекарственных средств (что позволит максимизировать прибыли фармацевтических компаний).
Что необходимо изменять в правовой базе?
1. Большинство инновационных технологий не нуждаются в каком-то дополнительном правовом регулировании. Это, например, ядерная медицина. Позитронно-эмиссионная томография, сцинтиграфия, протонная терапия не требуют принятия специальных нормативных актов. Проблема в ином – в наличии финансов на закупку и установку специальных устройств, а также на последующее обслуживание. Наука нуждается в свободе и денежном обеспечении, а не в регуляторе. У нас же первый шаг ученого (поступление в аспирантуру) – это шаг в нищету (в которой он обречен находиться весьма продолжительное время).
2. В умах многих государственных деятелей присутствует миф, что административным методом можно заставить двигаться те социальные процессы, которые в современных условиях нуждаются в совершенно ином регулировании. Это относится и к развитию научного прогресса. По-видимому, еще жив в сердцах опыт «шарашек», когда по приказу можно было осуществлять прорыв в различных научных направлениях. Нельзя следовать логике, что построим лабораторию, напичкаем ее современным оборудованием и завтра будем выдавать на-гора результат за результатом [35]. Реформа должна происходить от изменения структуры образовательных стандартов в области медицинского образования до повышения статуса врача (в первую очередь в части материального обеспечения). Показательно: Россия по наличию ряда медицинского оборудования на душу населения обгоняет многие развитые страны, но это не поменяло ситуацию с состоянием здоровья основного числа граждан.
3. Необходимо принять федеральные законы, которые и так уже давно разработаны Минздравом России и прошли обсуждение в медицинском и юридическом сообществе. К таковым следует отнести проекты следующих законов: «О донорстве органов человека и их трансплантации» (проект неоднократно опубликовался на сайте Минздрава России, в каждом варианте вероятная дата вступления в силу отодвигалась, в последнем случае это было 1 января 2016 г.); «О биомедицинском эксперименте» (разработан рядом российских ученых). Нуждаются в доработке правила оказания медицинских услуг удаленным способом, включая интернет.
4. Нужна полная модернизация законодательства, определяющего генно-инженерную деятельность в Российской Федерации. Необходимо установить жесткие правовые запреты: на сбор, обработку, распространение и хранение генетической информации человека немедицинскими организациями; на аналогичные мероприятия со стороны иностранных организаций без специального разрешения Минздрава России; на использование генетической информации в иных целях, кроме тех, которые прямо определены в законе; дискриминацию граждан по генетическим характеристикам. Приведенный перечень запретов далеко не исчерпывающий.
5. Необходимо внести дополнения в уголовное законодательство Российской Федерации, которые бы гарантировали соблюдение установленных запретов. За основу можно взять законодательство Франции, в уголовном кодексе которой содержится специальный раздел, посвященный охране здравоохранительных правоотношений.
6. Необходимо создать правовую базу для внедрения генетической паспортизации населения и перевода получаемых данных в электронный ресурс. В настоящее время разработана ЕГИСЗ – Единая государственная система здравоохранения (http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/). Но она выполняет иные функции. При создании информационной медицинской базы важно принятие федерального закона, который бы определял правила сбора, обработки, использования и защиты персональной информации. Должны быть предусмотрены гарантии недопустимости несанкционированного получения информации, что можно наблюдать в современных условиях. Публичность информации, которая позволяет медицинским работникам без ограничений знакомиться с личными данными, уже в ряде регионов формирует недоверие к российской медицине. Закон должен определять, в каких случаях информация систематизируется без наличия на то согласия гражданина.
7. Современные инновационные медицинские технологии объединяют в себе достижения точных и естественных наук, но они нуждаются также и в этической оценке. Зарубежный опыт показывает, что по тем технологиям, которые могут вызвать широкую общественную дискуссию, и имеют неоднозначную моральную оценку, проводятся консультации в специально созданных этических комитетах. Статус таких комитетов определяется законом. Порядок формирования предусматривает включение в них представителей органов государственной власти, научной общественности, религиозных организаций. Такие комитеты создаются не «при органе» (как происходит в нашей стране), а отличаются особым независимым статусом.
Примечания
Еременко В. И. Об инновационном развитии экономики Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2010. № 12. С. 10–19.
Сергеев Ю. Д., Мохов А. А., Яворский А. Н. Пилотный (экспериментальный) правовой режим для отечественной биомедицинской науки и практики // Медицинское право. 2019. № 4. С. 3–13.
Горбачев В. И., Шмаков А. Н. Нормативно-правовое обеспечение педиатрической анестезиолого-реанимационной помощи // Медицинское право. 2020. № 1. С. 41–47.
Старчиков М. Ю. Основания освобождения медицинских организаций от гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный жизни (здоровью) пациентов при оказании медицинских услуг: теоретические положения и судебная практика. М.: Инфотропик Медиа, 2017. С. 127.
URL: http://medicalinnovationbill.co.uk/.
Medical Innovation Bill: Lord Saatchi on cancer treatment // URL: https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-21045287/medical-innovation-bill-lord-saatchi-on-cancer-treatment.
Richards B. Medical innovation laws: An unnecessary innovation // Australian health review: a publication of the Australian Hospital Association, 2015.
Guide to the Medical Innovation Bill, 2015 // URL: http://medicalinnovationbill.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/Guide-to-the-Medical-Innovation-Bill.pdf.
Rawlins Michael D. The «Saatchi bill» will allow responsible innovation in treatment // The BMJ. 2014. № 348. URL: https://www.bmj.com/content/348/bmj.g2771.
Baum М. Saatchi is right to promote medical innovation but his bill is wrong way to do it // The BMJ. 2015. № 350. URL: https://www.bmj.com/content/350/bmj.h531.
Richards B., Williamson L. Supporting Innovation in the UK: Care Act 2014. Developments in Social Care Legislation in England and the Medical Innovation Bill // Journal of bioethical inquiry. 2015. Vol. 12. № 2. Р. 183–187.
Richards B., Hutchison K. Consent to innovative treatment: No need for a new legal test // Journal of Law and Medicine. 2016. Vol. 23. № 4. Р. 938–948. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30136565.
Mission area: Cancer // URL: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-cancer_en.
Horizon Europe: towards a European agenda for global health research and innovation / I. Abubakara, А. Plasenciab, Т. Bärnighausenc, G. Froeschld [et al.] // The Lancet. 2019. Vol. 393. № 10178. P. 1272–1273. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673619302879.
Stanford Medicine, 2017. Health Trends Report Harnessing the Power of Data in Health // URL: https://med.stanford.edu/content/dam/sm/sm-news/documents/StanfordMedicineHealthTrendsWhitePaper2017.pdf.
Черешнев В. А. Состояние и перспективы развития биомедицинских клеточных технологий в России // URL: http://www.gosbook.ru/node/71573.
Kewal K. Jain. Personalized Medicine // Current Opinion in Molecular Therapeutics. Basel: Current Drugs, 2002. Vol. 4 (6). P. 548–558.
Медведева Л. М. Персонализированная медицина – новый вектор развития современного здравоохранения // Векторы развития современной науки. 2016. № 1 (3). С. 27–29.
URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gentg/.
URL: http://www.biodeutschland.org/tl_files/content/positionspapiere/BIO_D_Position-Diagnostikgesetz.pdf
URL: http://www.cnlnews.tv/2011/03/20/embryo/.
URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000 000441469.
Романовский Г. Б., Романовская О. В. Конституционная правосубъектность граждан и современные биотехнологии // Вопросы правоведения. 2013. № 2 (18). С. 309–333.
Романовский Г. Б., Романовская О. В. Биомедицинские технологии как объект правового регулирования // Публично-правовые исследования. 2014. № 1. С. 1.
Романовский Г. Б., Романовская О. В. Насцитурус в семейно-правовых отношениях и современная биомедицина // Семейное и жилищное право. 2013. № 6. С. 23–27.
URL: http://www.rosatom.ru/production/medicine/.
Уйба В. В. Ядерная медицина – проект будущего // URL: http://ipheb.ru/netcat_files/userfiles/7_Uyba.pdf.
Кузьмина Н. Б. Что такое ядерная медицина? / Центр ядерной медицины НИЯУ МИФИ // URL: https://nm.mephi.ru›system/files/file/upload/brochure_0.pdf.
Белокрылова Е. А. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» / под ред. А. П. Анисимова. М.: Ай Пи Эр Медиа, 2009. 312 с.
Романовская О. В. Особенности профессиональной деятельности медицинских работников в Российской Федерации // Трудовое право в России и за рубежом. 2013. № 3. С. 38–41.
Романовская О. В. Модернизация законодательства об оказании специализированной медицинской помощи // Реформы и право. 2014. № 2. С. 3–9.
Ядерная медицина в России: успехи, проблемы и перспективы / А. Цыб, В. Крылов, Г. Давыдов, И. Гулидов // Медицина, целевые проекты. 2012. № 11.
Романовская О. В. Обязанности медицинских организаций // Менеджер здравоохранения. 2014. № 5. С. 43–51.
Романовская О. В. Генетическое консультирование в семейном праве // Гражданин и право. 2014. № 12. С. 71–80.
Романовская О. В. Проблемы совершенствования правового статуса государственных академий наук // Гражданин и право. 2013. № 10. С. 10–18.
О. В. Сушкова
Проблемы правового регулирования использования искусственного интеллекта и роботов в медицинской деятельности1
В настоящее время развитие информационных технологий выступает важным фактором развития для экономики общества, а также сферы предпринимательской деятельности. В России достаточно активно проводятся все возможные действия для улучшения законодательной базы, регулирующей сферу информационных технологий. Кроме того, в правоприменительной практике стали использоваться такие объекты, как искусственный интеллект, роботы, беспилотный транспорт. Эти объекты гражданского и предпринимательского оборота в настоящее время не имеют своего регулирования ни в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), ни в каком-то ином нормативном правовом акте. Поскольку именно урегулирование указанных объектов в законодательстве позволит применить к ним способы защиты права (ст. 12 ГК РФ) [1], они могут быть объектом налогообложения, частью уставного капитала организации, быть объектом инвестиций и т. д.
10 октября 2019 г. Президентом РФ был принят Указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», которым была утверждена Стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. (далее – Стратегия) [2]. Следует отметить, что подп. «а» п. 5 Стратегии предусматривает понятие искусственного интеллекта, под которым понимается комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности (далее – РИД) человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.
Исходя из предлагаемого определения можно сделать вывод, что искусственный интеллект можно рассматривать как объект гражданских прав и, возможно, в дальнейшем включить в ст. 128 ГК РФ. Данное суждение основано и на том, что в предлагаемом определении искусственного интеллекта упоминается о том, что его конечным результатом является РИД. В связи с чем можно говорить о том, что искусственный интеллект как РИД имеет способность участвовать в инвестиционном процессе [3] и являться частью информационной среды [4]. В связи с чем «часть четвертая ГК является хорошо выверенным балансом между сложившимися в сфере “интеллектуальной собственности” гражданско-правовыми институтами и необходимыми новеллами правового регулирования, обусловленными как требованиями международных конвенций, так и современным научно-техническим развитием» [5]. Следовательно, можно говорить о необходимости комплексного правового регулирования искусственного интеллекта как РИД, так как все это возможно только при взаимодействии нескольких отраслей права.
Поэтому закрепление на федеральном уровне правового режима искусственного интеллекта не только бы снизило риски инвесторов, но и способствовало бы развитию экономики страны. Сегодня искусственный интеллект выступает «стратегическим продуктом» будущего. Все это сводится к тому, что необходимая модернизация законодательства страны может быть обеспечена, как нам представляется, тремя базовыми компонентами: национальной инновационной моделью в научно-технической сфере; системой инвестиционного финансирования, включающей изменения налогового регулирования; системой высшего профессионального образования и культуры [6].
Такое положений вещей в российском праве позволило автору работы обратиться к зарубежному законодательству с целью проведения сравнительно-правового анализа норм законодательства, позволяющих реализовывать и защищать искусственный интеллект как объект информационной среды в сфере предпринимательской деятельности.
В настоящее время исследования в области биотехнологий и генетики являются достаточно инновационными. Наука и техника сейчас переживают стремительное развитие, что выходит за рамки исключительно научных интересов, поскольку затрагивает социальные сферы жизнедеятельности человека и предпринимательской деятельности. К таким сферам можно отнести: медицину, фармацевтику, развитие человека, растениеводство, животноводство, сельское хозяйство, пищевую промышленность, экологические технологии, страхование и юридические науки. Поэтому нельзя исключать, что для этих новых сфер требуется законодательное регулирование, которое позволит с наименьшими рисками улучшить оборотоспособность объектов и участников предпринимательской деятельности. В частности, с помощью механизмов ДНК создаются системы безопасности, которые регулируют доступ человеку к зданиям и комнатам и, возможно, в ближайшем будущем заменят и электронные замки, в том числе и к автомобилю. Микроорганизмы могут быть подвергнуты генной мутации с целью уменьшения вредных веществ в атмосфере, что способствует улучшению экологической обстановки в неблагоприятных регионах. Применяя методы клонирования и используя различные генные модификации можно на основе материала, оставшегося от вымерших видов животных и растений, создавать новые виды животных или растений. Генная инженерия предоставляет в настоящее время широкие возможности, в том числе и некоторое позитивное вмешательство в процесс эволюции, становясь ее частью.
Следует отметить, что в настоящее время какая-либо техническая область настолько противоречива, как исследования, связанные с геномом или биотехнологиями. Это связано с тем, что, с одной стороны, такие исследования вторгаются именно в процесс эволюции человека, что в соответствии с законодательством некоторых стран подвергается критике. С другой стороны, подобные исследования направлены на получение информации о путях лечения таких болезней, как ревматизм, СПИД, диабет, рак и иные. Таким образом, в контексте исследования генома человека уже расшифровано более 1400 генов болезней человека. В связи с чем в Германии разрешены методы лечения не только с использованием стволовых клеток, но и на основе эмбриональных стволовых клетках.
Кроме того, биотехнология является важной сферой применения с огромными перспективами экономического роста и значительным инновационным потенциалом для развитых экономик. В связи с чем ее эффективное применение в XXI в. невозможно без информационных технологий. Поэтому их сочетание может привести к положительным результатам в сфере диагностики тех или иных заболеваний. Характеризуя современную сферу биотехнологий, необходимо указать на тесную связь между фундаментальными исследованиями и коммерциализаций на рынке, что неоднократно становилось предметом международных исследований и сотрудничества между крупными корпорациями, малыми биотехнологическим компаниями и государственными исследовательскими институтами. Однако с таким быстрым процессом коммерциализации были согласны не все, чья сфера интересов касалась биотехнологий. Нельзя не отметить, что область биотехнологий и генной инженерии может затрагивать этические, религиозные и моральные аспекты развитого гражданского общества. Тем не менее существующие законодательные механизмы позволяют исследователям и дальше развивать свои результаты, поскольку новые технологии и генная инженерия могут изменить жизнедеятельность человека путем корректировки его целей и ценностей. Это связано с тем, что значение человека сводится к его генетическим свойствам и открытости нового вида эвтаназии. Кроме того, есть опасения, что применение генной инженерии может повлечь за собой технические риски, которые в настоящее время недостаточно изучены, в связи с чем могут быть пока неуправляемы.
Однако, несмотря на существующие позитивные и негативные аспекты рассматриваемого вопроса, необходимо отметить, что с увеличением расшифровки генома человека выросло количество «генетических патентов», которые стали достоянием общественности. «Кому принадлежит человек (указано в одном “генетическом патенте”): это большой “предприниматель” с большими планами на жизнь» [7]. «Борьба за товар – человека» [8]. «Борьба за ген» [9] или «Темные интересы с генным патентом» [10]. Все эти названия были заголовками статей в центральных СМИ в Германии. Такие выводы показывают наличие исследований после того, как было объявлено о полном секвенировании генома человека в 2000 и 2001 гг. Ряд критиков высказывали свои недовольства о предоставлении прав на результаты интеллектуальной деятельности на те изобретения, где живое вещество человека используется или производится.
Надо отметить, что критические обсуждения указанного аспекта фактически появились с принятием Директивы ЕС по биотехнологиям. Тем не менее в правовом дискурсе Германии дискуссии по этике вновь возобновились, когда Директива ЕС по биотехнологиям была введена в систему немецкого патентного права. Указанная Директива ЕС также была введена и в связи с работой Национального Совета по этике и комиссией Бундестага Германии «Право и этика современной медицины», функции которой были связаны с обсуждением этических и спорных вопросов, таких как допустимость предымплантационной генетической диагностики, исследования с эмбриональными стволовыми клетками или на их основе. Кроме того, в компетенцию Комиссии входили и вопросы, связанные с правовыми, этическими аспектами применения стволовых клеток и клонирования.
Поэтому цель настоящей работы – объективно показать возможное развитие законодательного регулирования генетических и биотехнологических исследований в России через применение технологии искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект является одним из самых обнадеживающих направлений развития цифрового здравоохранения. У нас в стране постоянно появляются все новые и новые разработки и исследования, предлагающие реализацию этих технологий для медицины и здравоохранения.
В Российской Федерации использование технологий искусственного интеллекта в медицинской сфере основано на Федеральном законе от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» [11]; Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 31 декабря 2017 г.) «О персональных данных» [12]; ГОСТ Р 57757–2017 «Дистанционная оценка параметров функций, жизненно важных для жизнедеятельности человека. Общие требования» [13]; приказе Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» [14]; приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» [15].
Использование роботов и искусственного интеллекта в медицине может обеспечивать следующие положительные эффекты:
– автоматизация повышает не только производительность труда врачей, но и может обеспечивать выход на принципиально новые уровни возможностей (повышение сложности доступных операций, снижение инвазивности операций и других видов лечения, а также вероятности врачебных ошибок);
– снижение расходов на средний и младший медицинский персонал и повышение производительности;
– интенсификация процессов возвращения пациентов к нормальному существованию после травм, заболеваний, операций;
– повышение мобильности маломобильных групп населения;
– повышение качества жизни пожилых пациентов;
– облегчение пребывания пациентов в больницах, в том числе путем сглаживания проблем, связанных с «отрывом» пациентов от привычного круга общения, от семьи, обеспечение контактов или удаленного наблюдения за пациентом в больнице или пожилым человеком у него дома членами его семьи, которые могут находиться в другом месте [16].
К негативным факторам следует относить:
1) трансформацию рынка труда, так как существует возможность автоматизации низкоквалифицированных рабочих мест в трудоемких секторах;
2) необходимость разработки этических фильтров (на уровне правовых норм) для сохранения достоинства, автономии и самоопределения личности. Эта задача наиболее актуальна именно для социальной и медицинской сфер (например, области ухода за людьми и общения с ними, а также в контексте применения имплантов, протезов и других медицинских приборов).
На сегодняшний день выделяют следующие основные направления использования робототехники и технологии искусственного интеллекта в медицине:
– роботы для больниц (ClinicalRobotics) определяются как системы ИИ, обеспечивающие процессы: диагностики, лечения, хирургического вмешательства и ввода медикаментов, систем экстренной помощи. Управляются персоналом больницы (специалистами в области заботы о пациентах);
– роботы для реабилитации (Rehabilitation) – обеспечивают послеоперационную или посттравматическую помощь, когда прямое физическое взаимодействие с робототехнической системой будет ускорять процесс восстановления (выздоровления), либо обеспечивать замену утраченной функциональности (например, когда речь идет о протезе ноги или руки);
– вспомогательные роботы (Assistiverobotics): первичным назначением технологии ИИ является обеспечение поддержки медперсоналу или непосредственно пациенту [17].
Однако, несмотря на такие позитивные тенденции в вопросах внедрения роботов и искусственного интеллекта, возникает ряд вопросов, которые требуют своего законодательного закрепления и регулирования.
Какие из них доходят до практического внедрения? Какие конкретные примеры эффективности удается с их помощью показать? Какие регионы-лидеры в нашей стране больше всего продвинулись во внедрении таких продуктов?
Активно развивается законодательство и практика в области искусственного интеллекта в субъектах Российской Федерации. В настоящее время наблюдается такое развитие только в 22 субъектах РФ. В настоящем исследовании предлагается правовой анализ некоторых нормативных правовых актов ряда регионов, поскольку в большинстве субъектов Российской Федерации имеются достаточно схожие механизмы в отношении особенностей правового регулирования технологии искусственного интеллекта в сфере медицинской деятельности и здравоохранения. Самым обсуждаемым проектом выступает сейчас «Цифровое здравоохранение» [18].
Для реализации принципов и направлений развития «Цифрового здравоохранения» необходимо:
1) продолжить работу по приоритетному (по отношению к бумажной версии) внедрению электронной медицинской карты (ЭМК);
2) обеспечить внедрение юридически значимого электронного документооборота и электронной подписи;
3) развивать нормативно-справочную информацию, онтологии, глоссарии и т. д.;
4) развивать личный кабинет пациента «Мое здоровье»;
5) продолжать работу по созданию и наполнению федерального сервиса ЕГИСЗ и подключению к нему медицинских организаций (всех форм собственности, а не только государственных) и граждан (что уже предусмотрено «Моим здоровьем» на ЕПГУ);


