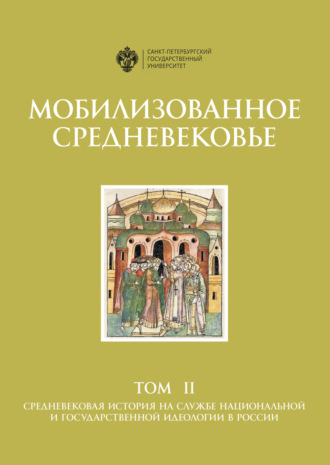
Коллектив авторов
Мобилизованное Средневековье. Том II. Средневековая история на службе национальной и государственной идеологии в России
Содержащиеся в приведенном пассаже известия о волохах, которые «прияша землю словеньску», и уграх, которые изгнали волохов и «наследиша землю ту», многократно и тщательно анализировались в историографии. При сохраняющейся дискуссионности вопроса об источнике этих сведений практически всеми исследователями признается, что они хорошо отражают этнополитическую историю Карпатской котловины в конце VIII–IX в. – сначала господство франков (волохов) в Паннонии, а затем занятие ее территории венграми. Таким образом, географическая привязка фигурирующей здесь Словенской земли (Карпатская котловина или по крайней мере ее западная часть – Паннония) не вызывает сомнений. Данный вывод необходимо сопоставить с дальнейшим рассказом этой же летописной статьи о кирилло-мефодиевской миссии в Моравии и Паннонии, в котором славянские правители Ростислав, Святополк и Коцел совокупно именуются князьями Словенской земли. Следовательно, под Словенской землею здесь подразумевается пространство трех славянских княжеств, расположенных в Среднем Подунавье, – Моравского (Ростислав), Нитранского (Святополк) и Паннонского (Коцел).
Казалось бы, то обстоятельство, что Словенская земля в летописной статье 898 г. включает в себя те политические образования, на территории которых разворачивалась деятельность Кирилла, Мефодия и их учеников, может быть расценено как свидетельство сугубо книжного характера понятия «Словенская земля», а именно его возникновения под воздействием кирилло-мефодиевской агиографии. В свою очередь предполагаемое совпадение территории Словенской земли из летописной статьи 898 г. с областью первичного обитания словен на Дунае, обрисованной в космографическом введении, может даже навести на мысль, что и сама этногенетическая концепция летописца возникла под впечатлением от знакомства с паннонскими житиями свв. Кирилла и Мефодия. Похожую идею недавно высказал А. П. Толочко: ввиду того, что в ПВЛ представление о существовании единого славянского народа неразрывно связано с обладанием этим народом особой письменностью, источником представлений летописца о Словенской земле в Подунавье исследователь счел письменные памятники кирилло-мефодиевского круга[111].
Между тем еще Н. К. Никольским было справедливо замечено, что содержащийся в ПВЛ рассказ о расселении славян с Дуная обнаруживает сходство с картинами ранней славянской истории, изображенными в памятниках средневекового историописания Центральной Европы[112]. Так, в «Баварской хронике императоров и пап», написанной в конце XIII в. и характеризующейся повышенным вниманием к истории славянских народов, сообщается о том, что предки чехов и поляков обрели новые земли для поселения, выйдя с территории Венгрии, откуда они якобы были изгнаны византийским императором Юстинианом II[113]. В качестве прародины славян Паннония эксплицитно фигурирует в Великопольской хронике[114], вводная часть которой («Пролог»), содержащая подробный и насыщенный деталями рассказ о происхождении и расселении славян, была создана во второй половине XIV в. К сожалению, в современной историографии так и не удалось выяснить корни этногенетических представлений упомянутых баварского и польского авторов, а в одной из последних работ, посвященных «Прологу» Великопольской хроники, даже высказывается мнение, что в качестве прародины славян Паннония в этом памятнике появилась под влиянием ПВЛ[115], что маловероятно. Для нас, однако, важно подчеркнуть, что о каком-либо влиянии на эти памятники кирилло-мефодиевской агиографии говорить явно не приходится, что свидетельствует об отражении в них независимой традиции, происхождение которой остается неизвестным.
Не менее важным является присутствие в письменных памятниках Центральной Европы представления о Карпатской котловине как о стране славян, совершенно сходного с тем, что наблюдается в ПВЛ. Наиболее ранним среди памятников, содержащих такое представление, является «Венгерско-польская хроника», созданная в 1220–1230-х гг. при дворе герцога Хорватии Коломана, брата венгерского короля Белы IV[116]. Наблюдаемое в «Венгерско-польской хронике» использование понятия «Склавония» для обозначения всей территории Карпатской котловины находит прямое соответствие в использовании в ПВЛ для обозначения этой же территории термина «Словенская земля». На это обстоятельство обратил внимание М. Хомза, справедливо заметив, что само известие «Венгерско-польской хроники» о том, как первый король венгров Аквила переименовал Склавонию в Венгрию[117], побуждает вспомнить сообщение летописной статьи 898 г., где говорится, что после того как венгры изгнали «волохов» и унаследовали Словенскую землю, последняя стала именоваться Венгрией[118]. В условиях отсутствия более ранней письменной традиции, которая бы могла повлиять на присутствие практически одинаковых этногеографических представлений в двух никак не связанных друг с другом письменных памятниках, остается считать, что эти представления были отражением этноисторических реалий раннего Средневековья, а именно зоны первичного распространения славянской идентичности в Среднем Подунавье, за пределами которой обозначение «словене» как элемент обиходной этносоциальной категоризации славофонного населения первоначально не использовалось[119].
Очертив в этногеографическом введении пространство славянской прародины, совпадавшей, как мы могли убедиться, с пространством раннесредневековой «Словенской земли» в Среднем Подунавье, летописец переходит к сюжету о миграции (расселении) славян из «Словенской земли» на другие территории Центральной Европы (в земли будущих Чехии и Польши), а также в Восточную Европу. Этот сюжет, как уже отмечалось выше, необходимо рассматривать в качестве необходимого структурного элемента повествования о начале народа, то есть «origo gentis». Славофонные народы, населявшие на момент составления ПВЛ различные области Европы, неизменно рассматриваются летописцем как произошедшие из одного корня, то есть составляющие, по сути, один народ. То, что при этом эти народы имели разные названия, летописец объяснил тем, что, прибывая на новые места поселения, разные группы единого словенского народа принимали названия, образованные от названий рек и прочих географических обозначений: «И от тѣх словѣнъ разидошася по зѣмле и прозвашася имены своими, гдѣ сѣдше на которомъ мѣстѣ»[120].
Вместе с тем расселение славян в представлении летописца было поэтапным. Первыми от древа единого словенского народа «отпочковались» мораване, чехи и ляхи, поселившиеся в областях, наиболее географически близких к Словенской земле, то есть к территории Карпатской котловины. В свою очередь от ляхов, чьи предки покинули пределы Словенской земли под давлением «волохов» (франков), произошли современные летописцу «лехитские» общности – поляне (поляки), мазовшане, поморяне и лютичи. Южнославянские народы (сербы, «белые» (по всей видимости, далматинские) хорваты, хорутане (карантанцы)) упомянуты летописцем отдельно, а наиболее подробно, что вполне ожидаемо, описано расселение славян на пространстве будущей Русской земли, приведшее к появлению таких общностей, как поляне, древляне, полочане, северяне и словене-новгородцы.
Картина расселения словен из этногеографического введения хорошо коррелирует и с процитированным выше фрагментом из летописной статьи 898 г., где, говоря о единстве славянского народа, летописец непосредственно перед киевскими полянами снова упоминает мораван, чехов и ляхов. Как справедливо заметил по этому поводу Н. К. Никольский, эти три славянских народа играют в летописном повествовании особую роль словенского ядра[121]. Объяснение этой особенности летописного «origo gentis Sclavorum», на наш взгляд, так же, как и в случае со Словенской землей в Среднем Подунавье, следует искать в социальном знании, обусловленном историей реальных контактов между славофонными народами. В первую очередь здесь следует вспомнить, что мораване, чехи и лендзяне (к последнему названию восходит древнерусский этноним «ляхи»), были народами, входившими в IX столетии в состав Великой Моравии, а позднее, в середине X столетия, в состав унаследовавшей кирилло-мефодиевские традиции державы Пржемысловичей, которую с Киевом связывали интенсивные торговые контакты по упоминавшемуся выше пути «из немец в хазары». В связи с этим можно предположить, что само выделение летописцем мораван, чехов и ляхов в качестве древнейших ответвлений единого словенского народа было связано с политическим единством этих народов в период существования если не Великой Моравии, то по крайней мере державы Пржемысловичей, лишь в конце X в. утратившей свой контроль над проживавшими на востоке лендзянами[122]. Такая трактовка кажется привлекательной и в свете свидетельств раннесредневекового еврейского источника – книги «Иосиппон» (Х в.), где в перечне общностей, именуемых «славянами» («Склави»), фигурирует народ «Ляхин»[123], который, как можно понять из перечня, был самым восточным славянским народом, известным еврейскому автору[124].
Важным в связи с этим является и упоминание в процитированной выше фразе из статьи 898 г. в ряду общностей единого словенского народа киевских полян сразу вслед за ляхами. Если, согласно этногеографическому введению, от ляхов «прозвались» польские поляне, то в статье 898 года сразу вслед за ляхами следуют поляне киевские, то есть «поляне, яже нынѣ зовемая русь». По мнению В. Я. Петрухина, летописец в данном случае отождествил польских полян, упоминавшихся в использовавшемся им «Сказании о преложении книг» вслед за ляхами в числе народов ляшского корня, с киевскими полянами, чтобы объяснить появление на Руси славянской грамоты[125]. Подобное объяснение выглядит логичным, но в свете допускаемых нами в летописном повествовании реминисценций эпохи существования многоплеменной державы Пржемысловичей можно, думается, допустить и другую интерпретацию соединения летописцем ляхов с киевскими полянами[126], усмотрев в ней рефлексию летописца на тему контактов Киева с ляхами (лендзянами) по пути «из немец в хазары»[127].
Этногенетическая концепция летописца, предполагавшая видеть в киевских полянах (руси) «днепровское ответвление» единого словенского народа, позволила летописцу сконструировать и свою оригинальную концепцию приобщения словен-руси к христианской вере. Так, завершая свой рассказ о деятельности Кирилла и Мефодия в Словенской земле, летописец отмечает: «Посем же Коцел князь постави Мефодья епископа въ Пании, на столе святого Онъдроника апостола, единого от 70, ученика святого апостола Павла. Мефодий же посади 2 попа скорописца зело, и преложи вся книги исполнь от гречьска языка в словенеск 6-ю месяць, начен от марта месяца до двудесяту и 6-ю день октября месяца. Оконьчав же, достойну хвалу и славу Богу въздасть, дающему таку благодать епископу Мефодью, настольнику Анъдроникову. Тем же словеньску языку учитель есть Анъдроник апостолъ. В Моравы бо ходил и апостол Павелъ учил ту; ту бо есть Илюрик, его же доходил апостол Павел; ту бо беша словене первое. Тем же и словеньску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есмо Русь, темъ же и нам Руси учитель есть Павел, понеже учил есть языкъ словенеск и поставил есть епископа и намесника по себе Андроника словеньску языку. А словеньскый язык и рускый одно есть, от варяг бо прозвашася Русью, а первое беша словене; аще и поляне звахуся, но словеньская речь бе. Полями же прозвани быши, зане в поли седяху, а язык словенски един»[128].
Информация о поставлении по инициативе паннонского князя Коцела Мефодия епископом «на стол Андроника апостола» была, естественно, почерпнута летописцем из Паннонского жития св. Мефодия[129]. Однако вся последующая конструкция, устанавливавшая связь между апостолом Павлом, Моравией, славянской прародиной в Иллирике и, наконец, полянами и русью, является оригинальной концепцией древнерусского историка. Первое, на что необходимо обратить внимание, – это то, что летописец установил связь между Мефодием и апостолом Павлом через фигуру преемника Павла апостола Андроника из числа 70 апостолов. О том, что апостол Павел, распространяя веру, «доходил до Иллирика», известно из Священного Писания (Рим. 15:19). Андроник же еще в раннесредневековой традиции фигурировал как епископ Паннонии[130]. Как мы видим, летописец дополнил эту информацию новыми элементами: во-первых, он локализовал Иллирик в пределах Словенской земли – поприща деятельности Кирилла и Мефодия; во-вторых, он сообщил, что именно в Ил-лирике первоначально, то есть, видимо, еще до образования среднедунайской Словенской земли, проживали славяне.
Как уже отмечалось выше, истоки традиции, связывавшие первоначальное место обитания славян с Иллириком, остаются не вполне ясными. Примечательно, однако, что представление о том, что славяне искони проживали на Балканах, являясь, таким образом, восприемниками апостольской проповеди, было свойственно в Средневековье отнюдь не только древнерусскому летописцу. Взгляда на историю христианизации славян, подобного тому, что отражен в ПВЛ, придерживались, к примеру, римские первосвященники. О том, что в папской курии славяне считались автохтонными жителями Балкан, воспринявшими христианство еще во времена Древнего Рима, позволяют судить письмо папы Иоанна VIII (872–882), адресованное «склавинскому» (видимо, сербскому) князю Мутимиру[131], и письмо папы Иоанна X (914–928), адресованное правителям Хорватского и Захумского княжеств Томиславу и Михаилу, а также «всему клиру, жупанам и народу» этих стран[132]. Судя по данным рескрипта папы Иннокентия IV, разрешившего в 1248 г. в ответ на запрос епископа хорватского города Сень Филиппа вести богослужение на славянском языке и использовать глаголические письмена в Сеньской епископии[133], к этому времени в Хорватии уже существовала некая традиция, согласно которой изобретателем славянской азбуки (глаголицы) был Иероним Блаженный. Так как Иероним был уроженцем города Стридон, располагавшегося, по данным античных источников, на границе Далмации и Паннонии, эта традиция естественным образом вытекала из представления о славянах как об автохтонных жителях Иллирика[134]. Наконец, можно вспомнить и известия чешского источника начала XIV в. «Так называемой хроники Далимила», согласно которой первоначальным местом проживания славян после Вавилонского столпотворения стали земли Иллирика, в том числе Хорватия, откуда в Богемию якобы и пришел праотец Чех[135].
По мнению словацкого слависта А. Авенариуса, именно существовавшая в древней Хорватии традиция об автохтонном происхождении южных славян обусловила появление в ПВЛ представления об Иллирике как области первоначального проживания славян[136]. Вместе с тем территория Хорватии, Захумского и Сербского княжеств, пусть и располагавшихся на землях, обычно именовавшихся и в поздней Античности, и в раннем Средневековье Иллириком, не были частью Словенской земли в том виде, в каком она очерчена на страницах ПВЛ. Размещая Иллирик на территории Моравии (и Паннонии), то есть Словенской земли, летописец мог, конечно, принимать во внимание границы позднеантичной префектуры Иллирик, включавшей в свой состав Паннонию[137]. В этом случае Словенская земля занимала бы часть исторического Иллирика.
Однако можно предложить и иное толкование, которое позволяет, напротив, считать Иллирик частью Словенской земли, заметно сузив, таким образом, территорию первоначального поселения славян в ее рамках. Такое толкование можно предложить, основываясь на упоминании Иллирика и Паннонии в трактате императора Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (середина X в.)[138]. Как показал недавно хорватский историк Х. Грачанин, Иллириком в трактате поименована территория Срема[139]. Если летописный Иллирик – это Срем, то летописец нисколько не ошибался, включив территорию Иллирика в состав Словенской земли, особенно если учесть, что в 860-х гг. Срем, вероятнее всего, входил в состав владений паннонского князя Коцела[140]. В таком случае именно факт церковной юрисдикции Охридской архиепископии над Сремом в XI–XII столетиях мог обусловить упоминание летописцем Болгарской земли в качестве страны, которая, наряду с Угорской землей, охватывала область первоначального проживания славян в Среднем Подунавье.
Как бы там ни было, но летописной апелляции к апостолу Павлу трудно отказать в логике. Коль скоро Иллирик полностью или частично находился в Словенской земле, то получалось, что славяне впервые были приобщены к христианству именно апостолом Павлом. При этом на апостольское наследие может с полным правом претендовать и русь, ведь поляне, получившие от варяг название «русь», в действительности являются словенами, а точнее, их восточным, днепровским ответвлением – выходцами из расположенной в Среднем Подунавье Словенской земли. Таким образом, этнически киевляне суть те же словене, и лишь новая среда обитания «в полях» привела к появлению у них нового названия. Что же касается новгородцев, то им даже не пришлось менять названия – они, будучи такой же частью единого народа словен, принесли его с собой на берега Волхова прямо с Дуная.
«Origo gentis Russorum»
Актуальная дискуссия об этапах формирования древнерусской исторической традиции, начатая сто лет назад трудами А. А. Шахматова и обогатившая за это время историческую науку многими интересными результатами, продолжается по сей день. Одна из ключевых проблем связана с реконструкцией текста Начального свода, отразившегося, по мнению Шахматова, в НПЛмл, и с его соотношением с текстом ПВЛ.
Для реконструкции формирования древнерусской исторической традиции этот спор имеет важное значение, так как в НПЛмл сюжеты происхождения русского народа и Русской земли изложены несколько иначе, нежели в ПВЛ. Древнейшая история Руси излагается здесь в летописной статье, помещенной под 6362 (854) г. и носящей показательное название «Начало Русской земли». В ней описывается история основания Киева братьями Кием, Щеком и Хоривом, после чего, вслед за заимствованным из византийских источников сообщением о походе руси на Царьград, следует сюжет о полянской дани хазарам и говорится о княжении Аскольда и Дира в Киеве. Затем следует подробный рассказ о призвании северными племенами на княжение трех братьев-варягов Рюрика, Синеуса и Трувора, после чего следует не менее обстоятельное повествование о том, как сын Рюрика Игорь и его воевода Олег овладели Киевом.
Все названные сюжеты с более или менее существенными расхождениями в отдельных деталях описываются и в ПВЛ, однако контекст их представления заметно отличается. В первую очередь бросается в глаза наличие в ПВЛ обширного космографического введения[141], в котором, помимо рассмотренного выше рассказа о происхождении и расселении славян, мы встречаем и рассказ об основании Киева тремя братьями-полянами. Таким образом, история Кия, Щека и Хорива воспроизводится в ПВЛ в ее недатированной, не содержащей хронологической сетки части, то есть отнесена к своего рода предыстории руси. Другие упомянутые выше сюжеты, напротив, оказываются разнесены по разным летописным статьям. Так, о призвании варягов ПВЛ сообщает в отдельной статье, помещенной под 862 г., в то время как о завоевании Киева Олегом, фигурирующем здесь не в качестве воеводы, а в качестве князя, правившего в малолетство Игоря, – под 882 г.
В одном из недавних исследований, посвященных проблеме соотношения НПЛмл и ПВЛ, П. С. Стефанович, развивая разделяемую многими исследователями гипотезу А. А. Шахматова об отражении в НПЛмл Начального свода, предложил трактовать всю летописную статью 854 г. как «Origo gentis Russorum» – единое и связное, выполненное по всем канонам жанра, повествование о начале русского народа и Русской земли. Помимо соображений текстологического характера, побудивших исследователя считать названную статью новгородской летописи целостным историческим произведением, восходящим к древнейшему этапу формирования русской исторической традиции, в обоснование интерпретации летописного рассказа именно как «origo gentis» Стефанович привел еще одно важное соображение. Исследователь счел возможным идентифицировать в летописном рассказе элемент, который в сравнительно-исторических исследованиях этногенетических традиций давно рассматривается как один из наиболее важных компонентов в структуре «origo gentis». Речь идет о так называемом «изначальном деянии» (нем. primordiale Tat) – некоем переломном или из ряда вон выходящем событии, знаменовавшем выход нового народа на историческую арену[142]. В этногенетических легендах таким событием могла быть победа над могущественным противником, переход через реку и т. п. Ссылаясь на примеры присутствия среди такого рода «изначальных деяний» судьбоносных побед, одержанных благодаря хитрости, Стефанович причисляет к ним и летописный сюжет о захвате Киева Олегом, обманувшим Аскольда и Дира, – событии, положившем начало образованию «Русской земли»[143].
Появление в современной историографии этой весьма привлекательной гипотезы знаменует собой, как нам представляется, очередной шаг в направлении интерпретации древнерусской исторической традиции как вполне обычного для раннесредневековой Европы комплекса исторических представлений, отражающего на уровне своей общей структуры закономерности конструирования прошлого под углом зрения этнического (этнополитического) дискурса. При этом в отношении отдельных сюжетов, составляющих этот комплекс, подобные выводы, основанные на анализе широкого круга европейских аналогий, в историографии уже неоднократно делались. Прочные и весьма показательные результаты были, в частности, получены при анализе таких центральных для русской исторической традиции сюжетов, как основание Киева и призвание варягов, что позволяет нам, не углубляясь в посвященную этим летописным сюжетам богатейшую историографию, сфокусировать внимание на наиболее важных для нашей темы выводах исследователей.
Автор ПВЛ помещает сюжет об основании Киева во вводную, недатированную, часть своего исторического сочинения, логично связав его с рассказом о расселении словен из Словенской земли и появлении их днепровского ответвления – полян. Летописный рассказ о Кие, Щеке и Хориве неоднократно становился предметом анализа в историографии как отдельно, так и в сопоставлении с аналогичным рассказом НПЛмл, отличающимся рядом существенных деталей[144]. В ходе исследований была выявлена сложность и многослойность летописного повествования о Кие. Нашли свое довольно убедительное, хотя и по понятным причинам гипотетическое, объяснение факультативные для центрального сюжета легенды известия о Кие-перевозчике и Кие-князе, якобы ходившем на Дунай и к византийскому цесарю.
Для нас в данном случае важно подчеркнуть, что в своем ядре предание об основании Киева может быть интерпретировано как отчасти этиологическая, отчасти этногенетическая легенда, повествующая о рождении «упорядоченной» социальной общности. Первенствующими в ней, несомненно, являются неотделимые друг от друга мотивы появления новой культурной общности и легитимной власти. В связи с этим, как показал польский историк Я. Банашкевич, предание о Кие может быть поставлено в один ряд с рассказом чешского хрониста Козьмы Пражского о начале Чехии, где роли, аналогичные роли Кия, играют Крок (судья-законотворец, устроитель социального порядка) и Пржемысл (первый князь и устроитель монархического порядка), а также с рассказом польского хрониста Винцентия Кадлубка о Краке – первом правителе и законотворце лехитов[145].
Правда, на фоне названных чешского и польского нарративов киевская легенда может показаться слишком лаконичной, а потому архаичной и сугубо локальной по своему происхождению, лишь искусственно встроенной в контекст летописного «Origo gentis Russorum». Неудивительно, что в историографии долгое время обсуждалась проблема фольклорных истоков легенды и ее локального, киевского, исторического контекста. Более того, на основании выявленного Н. Я. Марром[146] сходства мотивов и, как могло показаться, даже отдельных имен собственных из легенды о Кие и приводимого в армянской «Истории Тарона» (VIII в.) рассказа о происхождении рода Мамиконянов от трех братьев Куара, Мелтея и Хореана в историографии стала популярной идея о глубокой древности киевской легенды (не позднее VII–VIII вв.!), о ее непосредственной связи с этногенетическими мифами «яфетических» (в терминологии Н. Я. Марра)[147] или по крайней мере скифо-сарматских народов.
Даже если оставить за скобками параллели с армянской легендой, многие из которых признаются в современной историографии натянутыми или совершенно случайными[148], невозможно не задаться вопросом: не является ли легенда о Кие и его братьях, особенно если вынести за скобки сюжеты о Кие-перевозчике и Кие-князе, лишь локальным топонимическим мифом, который был зафиксирован летописцем, выступившем здесь в роли своего рода этнографа, изучающего племя полян, лишь вследствие своего киевского происхождения? К отрицательному ответу на этот вопрос склоняет прежде всего место, какое данная легенда занимает в повествовании о начале руси, а также сам характер общности, задачам легитимации которой эта легенда служила.
Долгое время в историографии считалось, что легенда о Кие является мифом полян – славянского племени, якобы проживавшего в районе Киева еще до того, как здесь вырос древнерусский город. Между тем племя с подобным названием не упоминается ни в одном из ранних источников, за исключением летописной традиции. Выявить ясные археологические маркеры полянской племенной территории, несмотря на все старания, предпринятые археологами, также не удалось. Наконец, и сам летописец в контексте рассказа о полянах упоминает лишь Киев, очевидно, отождествляя полян с жителями киевских гор. Есть поэтому веские основания считать, что племени полян никогда не существовало[149].
Население Киева, превратившегося в заметный поселенческий центр лишь на исходе IX в., уже в X в. было весьма гетерогенным, что совершенно естественно для поселения, возвысившегося благодаря появлению здесь центра власти и находившегося под его контролем торжища. Таким образом, киевских полян можно трактовать как новую гетерогенную квазиэтническую общность, возникшую не ранее IX–X вв.
Это наблюдение над характером реальной полянской общности хорошо соотносится и с тем, как полянскую общность воспринимал сам летописец. Из содержания летописной статьи 898 г. следует, что именно поляне, совершенно тождественные в данном случае киевлянам, превратились в русь после того, как в городе закрепились пришедшие с Олегом и Игорем варяги. Наблюдаемое в ПВЛ отождествление полян и руси (в ее новом «постпереселенческом» облике) позволяет рассматривать полянскую идентичность как одну из базовых для формирующейся в Среднем Поднепровье новой этносоциальной общности.
В этом этногенетическом контексте легенда о Кие и его братьях приобретает уже не локальное, а общегосударственное значение, являясь, таким образом, органической частью целостного «Origo gentis/regni Russorum». Сказанное, разумеется, не означает, что, будучи таким органическим элементом, легенда возникла сразу, в ее целостном виде. Проблема в данном случае заключается в ограниченности наших возможностей при попытке расслоить легенду, выявив те или иные элементы, которые бы можно было считать первичными.
Имена братьев Щека и Хорива, а также их сестры Лыбеди, очевидно, произведенные от локальных географических названий, если и несут в себе некую историческую информацию, то вряд ли связанную с самим сюжетом легенды. Неудивительно, что на этом фоне попытки историков выявить древнейшее ядро легенды разнятся между собой весьма существенно. В то время как, с одной точки зрения, троичная структура легенды принадлежит чуть ли не к основным ее характеристикам, с другой – первоначально действовал лишь один первопредок Кий, тогда как другие братья были добавлены уже на этапе литературной обработки предания.
В такой ситуации в гораздо более выгодном положении находится историк, фокусирующий внимание не на выявлении разновременных слоев, а, напротив, на вневременных (естественно в рамках Средневековья) структурах интерпретации социальной реальности, как это сделал в уже цитировавшемся исследовании Я. Банашкевич. Как заметил польский исследователь, продолжая свое сопоставление русского Кия с чешским Кроком и польским Краком, отсутствие в киевской легенде присущего чешской и польской легендам мотива принятия общего закона, на первый взгляд свидетельствующее против аналогии с летописным рассказом, в действительности более чем адекватно возмещается мотивом основания города, ведь именно город является символом единого иерархически выстроенного общества, своего рода антитезой конгломерату родов, живущих без закона и короля (sine lege et rege)[150].
В качестве одного из примеров тесной связи основания города и появления общего закона в средневековом сознании польский исследователь приводит, на наш взгляд, очень показательный пример из «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского – основание Новой Трои (Лондона) прибывшим из Трои легендарным первым королем британцев Брутом[151]. Описывая это событие, Гальфрид сообщает: «Покончив с разделом королевства, Брут загорелся неудержимым желанием выстроить город. Стремясь осуществить это намерение, он обошел вдоль и поперек всю страну, чтобы найти подходящее для этого города место. Подойдя к реке Темзе, он прошел вдоль ее берегов и обнаружил пригодное для воплощения своего замысла место. Итак, он основал город и тут же назвал его Новою Троей. <…> Итак, после того, как вышеназванный вождь основал вышеназванный город, он по праву победителя предоставил его своим людям для заселения и дал им законы, дабы между ними царили мир и согласие»[152].
Сопоставление предания о Кие с процитированным известием из «Истории бриттов», считающейся ярчайшим образцом исторического воображения эпохи западноевропейского ренессанса XII в., показательно прежде всего с точки зрения проблемы соотношения фольклора и исторических конструкций средневековых интеллектуалов, традиционно противопоставляемых друг другу в исследованиях повествований жанра «origo gentis» и «origo regni». Очевидно, что данное противопоставление, если и не является искусственным, то по крайней мере мало что дает для объяснения генезиса исторического воображения, отразившегося в средневековом историописании. Этих сложностей позволяет избежать концепция единого для (раннего) Средневековья социального знания, характеризующего авторов средневековых исторических сочинений в большей степени как людей своего времени, нежели как носителей некой эксклюзивной цивилизационной или элитарной культурной традиции.


