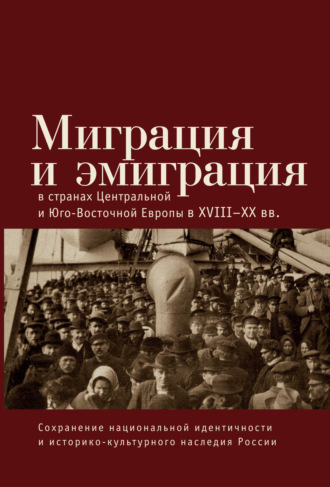
Коллектив авторов
Миграция и эмиграция в странах Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII-XX вв.
Исторически сложилось так, что цивилизационные импульсы (от принятия христианства, промышленного переворота в раннее Новое время до современной компьютерной революции) исходили с Запада на Восток. При этом надо иметь в виду, что западноевропейская цивилизация со временем распространилась и на Северную Америку, которая также идентифицировала себя – при всех различиях в менталитете – с понятием «Запад». Регион Центральной Европы вынужден был постоянно догонять более развитые передовые страны Запада, и формировать свою евроидентичность с учетом отставания, но принимая при этом во внимание безусловную принадлежность к западноевропейской цивилизации. Для каждого из народов региона Центральной Европы немалую роль играли, конечно, и собственный исторический опыт, место географичекого расположения и соприкосновение с соседями.
Бросив краткий обзорный исторический взгляд на европейское прошлое, можно заметить, что с началом упадка Римской империи (476 г.), оказавшей влияние на формирование в Европе средиземноморской культуры, в западном и центральноевропейском ареале развернулось образование государств. Сначала франки и другие германские племена осуществили организацию своего географического, экономического и общественно-политического пространства, а затем в этот процесс вмешалось исходящее с востока переселение народов. Начавшееся с VIII века распространеие германского влияния в восточном направлении, в Х веке – расширение границ самого германского государства на Восток («Drang nach Osten»), превратило его в ту самую силу (в современном смысле в геополитический центр), которая парадоксальным образом заставила своих соседей, – западных славян и венгров, осевших в Карпатском бассейне, – также мобилизоваться и создать свои независимые государственно-территориальные образования. В этом смысле немцы выступили в роли первых организаторов пространства Центральной Европы. В результате, уже в раннем Средневековье в Центральной Европе, наряду с германским государством, появились польское и венгерское, которые в равной мере принадлежали к западному христианскому миру и представляли собой силу, способную противостоять завоеваниям с Востока и Запада. Эти три центра стали впоследствии колыбелью центральноевропейской идеи и способствовали зарождению соответствующей региональной идентичности для населяющих этот регион народов.
Венгерское Королевство, будучи одним из основных силовых центров в Карпатском бассейне, с Х века на востоке имело свои весьма четкие и стабильные границы, очерченные Карапатскими горами, на юге соприкасалось с Византией, а на западе сумело отстоять status quo с германской империей. Польское и чешское развитие несколько отличалось от венгерского. У польского государства стабильные границы были только с Венгрией, на востоке и западе таких природно-естественных границ не было, и они были открытыми и подвижными. Чешское королевство, хотя и имело четкие природные очертания, с самого начала находилось в германском политическом и цивилизационном поле, ведь чешские короли признали феодальное господство немцев и стали частью Священной римской империи. В ХII веке в виду территориальной раздробленности польского государства немецкая империя предприняла попытку объединения всего центральноевропейского региона в единое политическое пространство. Попытка захвата польских земель в виду её упадка оказалась неудачной, да и венгры сумели отстоять и свой суверенитет, и территориальную целостность. Таким образом стремление самой могущественной внутренней политической силы сплотить воедино центральноевропеский регион на том историческом этапе не увенчалось успехом.
Польско-литовские попытки расширения своей территории на восток и установления контроля над частью сопредельного региона за счёт современных территорий Беларуси и Украины, – имевшие место с ХIV до середины ХVII века со стороны Речи Посполитой, – также не могли реализоваться ввиду противодействия со стороны России.
Сильное и процветающее Венгерское Королевство в Средние века (особенно в ХIV–ХV веках при династиях Анжу и Ягеллонов и во времена правления Матьяша Корвина), оставалась стабильной частью христианского Запада и Центральной Европы. Оно не претендовало на объединение всего региона под своей властью, однако, внешнеполитические концепции государства были явно направлены на достижение австро-чешско-венгерского государственного союза в интересах эффективной обороны от турецкого нашествия16. Однако эти устремления рубежа конца ХV – первой четверти ХVI веков при слабости центральной власти в этих странах и отсутствии ожидаемой поддержки со стороны Запада не принесли успеха. В битве под Мохачем (1526 г.) погиб венгерский король, и страна оказалась разделенной на три части. Почти две трети всей территории королевства на юге, оказались под турецким господством; узкая полоса территории на западе и севере страны с системой укреплений оставалась в составе Венгерского Королевстав под властью Габсбургов, где венгры вместе с австрийцами и чехами, образуя заслон перед турками, отстаивали общие интересы христианской Европы. Третья часть раздробленной страны – Трансильвания – в ранге княжества находилась в вассальной зависимости от султана. Венгерские князья Трансильвании, добившись относительной самостоятельности на территории, оказавшейся в качестве своеобразного острова между исламским югом, западным католицизмом и восточным православием, в своей политике умело лавировали между турками и Габсбургами, что обеспечивало для них свободу вероисповедания. Изгнание турок из Венгрии (столица страны Буда была освобождена в 1686 г.) коренным образом изменило ситуацию в центре Европы, усилило роль Габсбургов в этом регионе.
Габсбурги с середины ХIII века, установив свою власть над Австрией, взялись за построение империи. С этого времени монархия стала важной частью всей христианской Европы. В её рамках началось объединение всего центральноевропейского пространства. В качестве новой интегрирующей и модернизирущей Центральную Европу силы в тех условиях выступил австрийский Габсбургский дом, пытаясь с ХVI века утвердить свою династическую гегемонию в регионе. Чешское государство потеряло суверенитет и на правах «вечной провинции» вошло в состав Австрийской империи. Венгрия также была присоединена к монархии Габсбургов, сохранив при этом исторические рамки государства. Политической столицей Венгерского Королевства тогда вместо опустошенной турками Буды стал Пресбург (Пожонь, Братислава), но страной, как и всей монархией фактически управляли из Вены. Характерно, что Габсбурги только в середине ХVII века были вынуждены отказаться от попыток установить гегемонию над всей Центральной Европой. Дело в том, что после изгнания турок объединительные устремления Габсбургов не встретили поддержки народов империи. Долгое время трудно было понять истинный характер монархии, сложно было определить её идеологию, и задачи в качестве великой центральноевропейской державы. Для малых стран и народов всего региона Центральной Европы она могла стать интеграционной структурой, но лишь отдельные представители династии предпринимали интеграционные шаги в этом направлении в условиях отступления Османской и укрепления Российской империи в конце ХVIII века.
Дух европейской модернизации и культурные импульсы, исходившие с Запада, приходили к разным народам многонациональной монархии именно через Вену. Это особенно чётко прослеживается со времени правления императрицы Марии Терезии и Иосифа I, которые способствовали как активному развитию системы школьного образования в своих владениях на родных языках народов17, так и основ их региональной общности многонациональной дунайской монархии. Единая система школьного образования на родных языках народов, населявших монархию, поддержка развития их национальной культуры несомненно способствовали сохранению их национальной и религиозной идентичности.
Историческое развитие всего центральноевропейского региона с середины ХVIII века определяли в основном именно две немецкоязычные державы – монархия Габсбургов и Пруссия, – которые в равной мере претендовали на объединение всех германских земель в единое государство. Реализовать эту идею в XIX веке, когда прогремевшие революции 1848–1849 гг. и последующие войны существенно ослабили многонациональную империю Габсбургов, оказалось легче для Пруссии. Под её эгидой состоялось объединение германоязычных земель в западной и северной части Центральной Европы. Создание Второго рейха (1871 г.) без австрийских земель Габсбургов в качестве немецкого национального государства явилось геополитическим вызовом как для Запада, так и Востока Европы, тем более, что к концу XIX века (после 1890 г.) новое объединенное германское государство во главе с императором Вильгельмом открыто заговорил о своих глобальных амбициях.
С точки зрения предмета нашего исследования следует обратить внимание на то, что языковые границы этих двух центральноевропейских гигантов – второго германского рейха и Габсбургских владений – почти совпали с географическими границами всей Центральной Европы, которые стали основным и определяющим фактором в регионе.
В юго-восточной части центральноевропейского региона, в рамках владений Габсбургов, преобразованных в 1867 г. в двуединую Австро-Венгерскую монархию, развитие шло другими путями. После нескольких спокойных десятилетий мирного общественно-политического развития, расцвета национальных культур народов, населявших это полиэтничное государственно-политическое образование (кстати, память о котором почти повсеместно до сих пор вызывает ностальгию среди многочисленных представителей интеллигенции ряда нынешних государств Центральной Европы и служит основой региональной самоидентификации), здесь в противоположность центростремительным процессам, имевшим место в западном и северогерманском пространстве во второй половине XIX века, наблюдалось оживление центробежных сил. Этот процесс также был связан с уже давно прошедшими в западной части Европы стремлениями к созданию национальных государств.
Сначала венгерские, а позже чешские устремления, направленные на достижение национального суверенитета в рамках монархии (триализация), помешали тому, чтобы превратить дуалистическую монархию в фактор настоящей центральноевропейской региональной интеграции. Лишь такие сторонники федерализации монархии, как австийцы К. Реннер и О. Бауэр, венгр О. Яси, словак М. Годжа, румын В. Гольдиш думали над тем, как сделать монархию пригодной для реализации центральноевропейских интеграционных задач18. Однако центробежные устремления, направленные на развал монархии, оказались более результативными. Они осуществлялись под этнонациональным лозунгом и, в конечном счёте, привёли к распаду Австро-Венгерской монархии, к формированию самостоятельных государств, некоторые из которых (Чехословакия и Югославия, а также Румыния) оказались такими же многонациональными но своему составу республиками или королевствами, какой была до этого сама Австро-Венгерская монархия. Процесс распада многонациональных и становления на их развалинах новых национальных государств на этом не закончился и продолжался вплоть до конца ХХ века (возрождение Чехословакии в соответствии с концепцией президента Э. Бенеша в качестве «национального» государства после Второй мировой войны, последующее образование самостоятельной Словакии в 1990-х годах).
Между тем, следует согласиться с мнением венгерского литературоведа Б. Помогача, который исчезновение с политической карты Европы такого некогда могущественного геополитического фактора в Центральной Европе, как Австро-Венгерская монархия расценивает так: «С полной уверенностью можно сказать, что исчезновение монархии, как великодержавного фактора в Европе, в очень большой степени облегчило дело тоталитарных империализмов, мечтавших о захвате Центральной Европы»19.
Несмотря на распад Австро-Венгерской монархии она остается в исторической памяти населения Центральной Европы колыбелью многих национальных культур, государством, в котором происходило формирование центральноевропейской идентичности, принципиально отличающейся от немецкого варианта «Миттель-Европы». Данное обстоятельство дает повод, чтобы на венгерском примере кратко остановиться на некоторых важнейших истоках и характерных чертах процесса её формирования.
Исторические аспекты центральноевропейской идентичности у венгров в условиях многонациональной Австро-Венгерской монархии
Идея взаимопомощи и сотрудничества, заложенная еще в Средние века королями Венгрии, Польши и Чехии, а затем наполнившаяся в условиях Австро-Венгерской монархии новым содержанием, весьма успешно утверждалась в сознании народов Центральной Европы, формируя своеобразную историческую общность и центральноевропейский менталитет. Следует, правда, повторить, что в политическом сознании части правящих элит Европы в результате определенных геополитических событий ХХ века больше закрепился несколько другой, более поздний образ центральноевропейской идеи, а именно связанный с Германией и ее доминированием в регионе накануне Первой и Второй мировых войн. В наиболее концентрированном виде этот образ нашел отражение в последних модификациях упоминавшегося плана «Миттель-Европы». Содержащийся в нем идеологический стереотип и сегодня довлеет над подходом к проблеме центральноевропейского единства, хотя центральноевропейскую идею и менталитет не следует связывать с ним, а тем более отождествлять. Ведь как изначальный, истоками из Средних веков, так и современный, возродившийся в 1980-е годы вариант центральноевропейской идеи имеет иной смысл, несет принципиально другой заряд, иное содержание и охватывает прежде всего культурно-историческую, ментальную сферу человеческого бытия. На этой идее базируется самоидентификация ряда народов Центральной Европы, в том числе венгров.
В Средние века главной и общей объединяющей народы Европы идеей стала принадлежность к христианству, понятия «христианский мир» и «Европа» иногда воспринимались как тождественные. Центральноевропейская идентичность зарождалась и формировалась в рамках общеевропейской цивилизационной или христианской идентичности, в качестве ее региональной составляющей. Раскол христианства на западную (католическую) и восточную (православную) ветви, равно как и последующее появление лютеранства, кальвинизма и других разновидностей протестантско-реформатской веры, образование национальных государств в Европе, а следовательно, возникновение дополнительных разграничительных линий в рамках общеевропейской идентичности – все это способствовало появлению новых локальных, в том числе, региональных и национальных, национально-государственных форм евроидентичности, которые разнообразили её структуру, не разрушая при этом рамки принадлежности отдельных народов к их общеевропейской общности.
С этой точки зрения поучительно рассмотреть какими видели себя венгры и каков был их образ в глазах соседей на протяжении веков. Такая постановка вопроса требует определения места и роли венгров в Европе. Прибыв 1100 лет тому назад, на завершающей волне «великого переселения народов», из степей Южного Урала в Карпатско-Дунайский бассейн, венгры воспринимались христианской Европой как пришельцы-«азиаты». Создав в центре Европы своё довольно могущественное государство, они не стеснялись своего происхождения, а сделали его источником силы и национальной самобытности, доказав вместе с тем способность приобщиться к европейской цивилизации – они быстро стали европейцами, восприняв христианские ценности и культуру Запада. Выбор, совершенный королем Иштваном I (1001–1038), поставил Венгрию на вполне определенные рельсы общественно-политического развития, с которых она, несмотря на многочисленные исторические бури, проносившиеся над регионом, не сошла и ныне. Вся история венгров свидетельствовует об их приверженности европейским западнохристианским ценностям и культурным традициям, что особенно отчетливо проявилось, например, в период расцвета могущественного венгерского королевства в эпоху правления короля Матяша Корвина (1443–1490). Иными словами, венгры и Венгрия органически вписались в Европу и прочно утвердились в восточной части Центральной Европы, следовательно, стали центральноевропейским народом.
Говоря о месте венгров среди соседних народов (в первую очередь, немцев и славян), хотелось бы обратить внимание на довольно меткое, сохраняющее известную актуальность и сегодня определение, данное им русским ученым К. Я. Гротом в конце XIX века: «Никому из инородцев, ни литовцам, ни северозападным финнам, ни румынам, ни тем более албанцам, ни разным азиатским пришельцам, начиная с гуннов и кончая монголами, даже самим туркам не выпало на долю такой постоянной, деятельной и видной роли в этих германо-славянских отношениях, как народности мадьярской, и это конечно объясняется прежде всего географическим положением, занятым мадьярами в Европе, и условиями их исторического развития, а также, конечно, некоторым выдающимся свойствам их национального характера». «Мадьяры, – подчеркивал он далее, – нанеся само собою разумеется значительный удар дунайским славянам, образовали зато для них, следовательно, вообще для германо-славянского мира сильный оплот против латино-германского Запада, какового это славянство, представленное одними своими разрозненными силами, в то время образовать еще не могло. История угорского государства последующих веков до конца прошлого века полна фактами, свидетельствующими именно о таком значении этого нового политического двигателя в истории Средней Европы»20.
Российский автор считал венгров в центральной части Европы «желанным бичом для славян». Он сформулировал и оценил с российских позиций роль венгров в Центральной Европе в качестве своеобразного защитного щита, бастиона или буфера между славянским и германским миром. Грот считал, что если бы не венгры, германский массив просто раздавил бы еще не успевшее окрепнуть раздробленное восточное славянство. Именно в таком противодействии германскому Drang nach Osten ученый видел призвание, роль и функцию некогда могущественного венгерского государства в этом регионе. Следует отметить, что в историческом сознании венгров свою функциональную роль они видели и продолжали выполнять в качестве «моста и связующего звена между Востоком и Западом». На деле это означало, что акцент с венгерской стороны делался на роль венгров именно в соединении, а не в разделении различных частей Европы. Подобная функция Венгрии в Центральной Европе при всех вариациях охотно признается венграми и в современных трактовках. Одной из последних попыток Венгрии воссоединить разделенную Европу можно считать период 1980–1990-х годов, когда в регионе происходили коренные геополитические переломы и наметилось возрождение «общеевропейского дома».
Свою европейскую принадлежность, центральноевропейскую идентичность или, как выражаются сами венгры, «европейскость», т. е. приверженность совершенно определенным ценностям цивилизации и культуры, венгерский народ за свою многовековую историю не раз подтверждал на деле. Венгрия не только в представлении самих венгров, но объективно, на протяжении веков была одним из форпостов европейской цивилизации и христианской культуры, бастионом, не раз защищавшим Западную Европу от различных посягательств извне. Здесь достаточно сослаться на ее роль в период татаро-монгольского, а затем и османского нашествия на Европу – ведь отчасти именно в Венгрии было остановлено дальнейшее продвижение на Запад этих полчищ, наводивших страх на весь западный христианский мир. При этом нелишне заметить, что цивилизованный Запад далеко не всегда отвечал венграм взаимностью и благодарностью за ту роль, которую волею судеб они сыграли в противостоянии различным нашествиям извне. Как уже отмечалось, значительная часть Венгрии надолго оказалась под оттоманским игом, другая потеряла самостоятельность и лишь ее восточная окраина вместе с Трансильванией сумела сохранить свою относительную независимость. Весь этот исторический опыт, аккумулированный венгерским национальным сознанием, безусловно, остался в памяти народа и оказывает влияние на политическое мышление венгров и в наши дни.
Впрочем, касаясь этих вопросов, следует отметить, что народы Центральной и Юго-Восточной Европы имеют общую историческую память. Они все пережили «попытки» адаптации или даже поглощения их различными империями (османской, габсбургской, германской, советской), но они выжили. Историк ставит в кавычку слово «попытка», ибо для истории господство различных внешних сил над народами региона на длительной исторической дистанции остается не постоянным, а лишь временным явлением. Венгры и соседние с ними народы несомнено имеют общий исторический опыт, что подтверждается даже мифологическими образами у австрийцев, венгров, поляков, словаков, сербов, хорватов, в которых в равной мере можно найти, например, утверждения о роли этих народов, как защитников христианства от нашествия турок21. Эти факты дают право говорить об их исторической и региональной общности.
Параллельно с чувством принадлежности венгров к западному христианскому миру (в широком цивилизационном понимании), у них развилась также идентичность регионального характера, центральноевропейская принадлежность, осознание себя частью многонациональной общности Центральной Европы. Складыванию евроидентичности способствовало само положение венгров (впрочем, как и у некоторых соседних народов), на стыке западного и восточного культурно-исторического влияния. Венгерская земля постоянно находилась в центре воздействий, которые становились для венгров, с одной стороны, источником силы, а с другой, превращали Венгрию в территорию противоборства великих держав, где сталкивались их политические интересы, а следовательно, приносили её народу многочисленные испытания. Важнее всего становилось, однако, то, что соперничество политических сил Запада и Востока в центральноевропейском пространстве приводило к осознанию венграми и другими народами этого региона себя в качестве подлинного среднеевропейца, подвергнутого культурному воздействию с обеих сторон, и поэтому оказавшегося способным роли своеобразного посредника, связывающего и передаточного звена между различными культурами.
Центральноевропейская региональная идентичность венгров значительно углубилась в сознании населения страны уже после изгнания турок, когда Венгрия оказалась под властью австрийских Габсбургов, которые, будучи императорами Австрии, становились также королями исторической Венгрии. Сосуществование целого ряда народов под крышей единой Габсбургской империи, расположенной между слабеющей Оттомансмкой империей и набиравшей силу Россией, несомненно, способствовало становлению и развитию регионального самосознания как венгров, так и остальных народов юговосточной части центральноевропейского пространства. И хотя настало время, когда империя Габсбургов (которая, в отличие от западноевропейских империй не имела своих колоний и поэтому в классическом понимании и не считалась таковой)22 была вынуждена отказаться от амбиций по объединению всего пространства Центральной Европы, именно она заложила основы наиболее приемлемого и коренным образом отличавшегося от германского варианта центральноевропейского существования для значительной части её народов. Созданная вскоре на её базе дунайская монархия, как известно, вообще отказалась от имперского статуса и имперской идеи.
В условиях XIX в., когда происходил процесс формирования современных наций, начали складываться условия для возникновения не только региональной, но и национальной (причем одно не ислючало, а только лишь дополняло другое) самоидентификации народов. Нельзя в то же время отрицать, что углубление национального самосознания в дальнейшем стимулировало не столько сближение, сколько отдаление друг от друга народов, населявших Габсбургскую монархию. Между ними по ряду причин началось возникновение и усиление противостояния на национальной почве. Известным конечным итогом такого исторического развития в дальнейшем стал распад Австро-Венгерской монархии и «расселение её населения по отдельным национальным квартирам».
Следует однако отметить, что во владениях Габсбургов, а затем в рамках Австро-Венгрии, проживало 11 национальностей, принадлежавших к тому же к 7 религиозно-культурным конфессиям, что придавало дополнительный национальный колорит монархии. Такое национально-культурное многообразие коренным образом отличало монархию Габсбургов от Великобритании, где присутствовала доминанта одной нации, или от Франции, Германии и Италии, где национальная однородность населения была очень высокой. И хотя многоязычную массу Австро-Венгрии и объединяло некое общеее центральноевропейское сознание и менее прочная монархическая принадлежность, этим идентичностям в условиях национального возрождения противостояла крепнущая национальная идентичность, которая в менявшихся условиях со временем так или иначе начала раскалывать политическое единство монархии. По данным статистики 1910 г. только в Цислейтании, т. е. австрийской части монархии (на территории 300 тыс. кв. км с населением 28,5 млн. чел.), проживали австрийские немцы (36%), чехи (23%), поляки (16%), украинцы (13%) и словенцы (5%). На территории же Транслейтании, т. е. венгерской части монархии (325,411 кв. км с населением 20,8 млн. чел.) – венгры (54,5%), румыны (16,1 %), словаки (10,7%), немцы (10,4%), подкарпатские русины (2,5%), сербы (2,5%), хорваты (1,1%) и прочие (2,2%)23. Удельный вес австрийских немцев и венгров в составе всего населения Австро-Венгрии в целом на том этапе оказался ещё ниже (соответственно 25% и 17%), что не позволяло их называть доминантной силой монархии. С 1867 по 1918 г. монархия прошла большой путь в экономическом и культурном развитии, однако всё ещё отставала от названных западноевропейских государств, уже не говоря о том, что между отдельными регионами Австрии была колосальная разница в уровне развития (ведь Чехию, например, от Боснии или Нижнюю Австрию от Буковины отделял целый мир). Многие из народов монархии в условиях пробуждения наций ставили и добивались своих национальных целей, стремились к утверждению другой политической системы либо к присоединению к единокровным братьям за пределами монархии. Тем не менее указанный период их совместного проживания в рамках единого могущественного государства Центральной Европы запомнился многим из них далеко не с худшей стороны. Венгерский историк Андраш Герё, досконально изучивший самые различные аспекты истории монархии, с полным правом констатировал: «Монархия (с входившей в неё Венгрией) – вопреки всякому легитимационному смешению, вопреки всем социальным противоречиям, а может быть, именно благодаря им, – имела свою большую тайну, которая заключалась в том, что в ней можно было жить. Политика не вмешивалась в жизнь людей, в их повседневное бытие, что явилось немалым достоинством, особенно если иметь в виду, что в ХХ веке совсем иное было отношение к этому вопросу»24. Среди прочих, видимо, данное обстоятельство также способствовало тому, что в 80-е годы прошлого века идея центральноевропейскости переживала свой ренессанс.
Австро-Венгрию, двуединую многонациональную монархию с центрами в Вене и Будапеште, несмотря на то, что её народы объединяло центральноевропейское сознание и принадлежность к единому и могущественному для своего времени государству, с которым население в какой-то мере идентифицировало себя, начали раздирать внутренние противоречия. Базировались эти противоречия именно на национальной почве. Национальное пробуждение, развитие национального самосознания, зарождение буржуазных наций являлись процессом противоречивым, асинхронным и далеко не одновременным для всех народов, населявших монархию, а, следовательно, во времени также растянутым. Эти процессы, приведшие к росту национального самосознания и укреплявшие национальную идентичность народов в обеих частях Австро-Венгерской монархии, по идее не должны были исключать существование у них общемонархического и регионального центральноевропейского сознания. Другой вопрос, на каком этапе, в каких землях и с какой силой утверждалось и реализовалось такое сознание. Процесс роста национального самосознания – в результате пробуждения и формирования в XIX веке национальных движений – на определенном этапе вступил в противоречие со столь желанным для Габсбургов общеимперским сознанием и монархической идентичностью. Данное противоречие сказалось, прежде всего, у тех народов, которые в прошлом имели свою самостоятельную государственность (венгры, хорваты, чехи-мораване, поляки).
Процессы углубления национального сознания в XIX веке не обошли стороной и австрийских немцев, стимулировав прогерманские тенденции в политике Габсбургов. Попытки германизации, однако, вызывали яростное сопротивление со стороны венгров, как и некоторых других народов монархии. Венгры сначала добились признания за своим языком статуса государственного на землях венгерской короны, а затем первыми провозгласили свою национальную независимость. Венгерская революция и национально-освободительная борьба 1848–1849 гг. были, как известно, подавлены. Последующее примирение Габсбургов с венграми и преобразование в 1867 г. Австрийской империи в двуединую Австро-Венгерскую монархию, хотя и смягчили на некоторое время противоречия, все же не привели к решению национальной проблемы. Австро-венгерское примирение и реорганизация монархии на двуединой основе не привели к тому, что австро-венгерской идентичностью было охвачено всё население в венгерской части монархии. Скорее в австрийской части монархии утверждалась австрийская, а в венгерской – венгерская национальная идентичность. Однако эти основные формы национальной и государственной идентичности также не принимались целиком той частью населения, которая не принадлежала к австро-германской и венгерской этнической массе. Поэтому, хотя и присутствовала общая для всего населения монархии государственно-территориальная идентичность, для венгров Венгерское королевство, его флаг и корона оставались основными символами своей национальной идентичности. Другие национальности венгерской части монархии в меньшей степени идентифицировали себя с этими атрибутами венгерского государственно-политического устройства. Для них большой притягательной силой являлись самостоятельные государственно-территориальные образования, находившиеся за пределами монархии: для трансильванских румын Румынское княжество, для сербов венгерской короны – существование самостоятешльного сербского государства, политические партии которой стремились к созданию великой Сербии.


