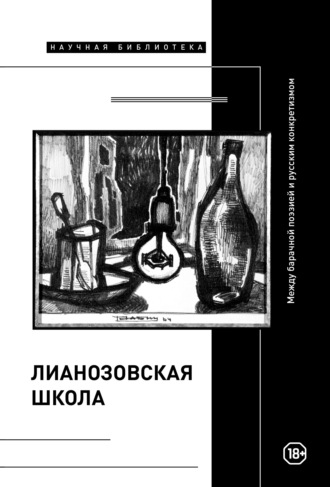
Коллектив авторов
«Лианозовская школа». Между барачной поэзией и русским конкретизмом
Лианозово в контекстах
Михаил Павловец
«ЛИАНОЗОВСКАЯ ШКОЛА» И «КОНКРЕТНАЯ ПОЭЗИЯ»34
«Лианозовская школа» и «Лианозовская группа» – до сих пор нет единства в том, как называть это сообщество поэтов и художников второй половины 1950-х – первой половины 1970-х годов, как нет окончательной определенности и в том, кто относится к ядру группы, кто – к ее периферии или входит в более широкий, дружеский круг «близких» к ней авторов: оба понятия употребляются в качестве синонимов, более того, иногда в качестве ее названия употребляются также понятия «барачная группа», а с легкой руки Эдуарда Лимонова – еще и «группа „Конкрет“». В последнее же время все чаще можно встретить определение «лианозовцев» как «русских конкретистов»35. Такое многообразие именований одного, пусть и недостаточно жестко определенного, круга поэтов (и художников) требует своего осмысления.
Как показал в своей работе Владислав Кулаков36, само понятие «Лианозовская группа» возникло благодаря «компетентным органам», перед которыми пришлось объясняться изгоняемому «за формализм» из МОСХа (Московского отделения Союза Художников) Евгению Кропивницкому в 1963 году – понятие «группа» здесь носит скорее юридический (ср. «организованная преступная группа»), чем искусствоведческий смысл, и смысл объяснительной Кропивницкого заключался как раз в том, что никакой группы по сути дела и нет – есть только родственный (и дружеский) круг.
Нередко отрицали существование группы/школы и сами поэты, причисляемые к ней. Так, Генрих Сапгир утверждал:
Никакой «лианозовской школы» не было. Мы просто общались. Зимой собирались, топили печку, читали стихи, говорили о жизни, об искусстве. Летом брали томик Блока, Пастернака или Ходасевича, мольберт, этюдник и уходили на целый день в лес или в поле…37.
В целом согласен с такой оценкой был и Всеволод Некрасов:
…с поэтами особенная неразбериха. На показах картин бывало, что читались стихи, но «групп» никаких не было. <…> Бывали Сатуновский и Некрасов, приезжавшие смотреть рабинские работы заметно чаще других. Бывали близкие приятели хозяина: Сапгир, Холин. И был, естественно, Е. Л. Кропивницкий: сам поэт, кроме того, что художник. <…> А она была и не группа, не манифест, а дело житейское, конкретное. Хоть и объединяла авторов в конечном счете чем-то сходных…38.
Действительно, в послевоенное время, особенно в «оттепельное», манифестирование себя в виде литературной «группы» вроде акмеистов или ОБЭРИУ, имеющим общую эстетическую программу, воспринималось в литературных кругах нередко как архаизм – важнее считалось подчеркивать индивидуальность своей поэтики, а не ее концептуальную близость с поэтами своего круга: не случайно, по свидетельству того же Вс. Некрасова, «Над „смогистами“ посмеивались – не как над поэтами, а именно как над „группой“…»39. Ни «группа Черткова» (иначе называемая «поэты Мансарды», 1954–1957), ни «филологическая» или «геологическая» школы не имели программных документов, периодических изданий и т. п. (альманахи «Брынза» и «Съедим брынзу» «филологической школы» ЛГУ до сих пор принадлежат скорее области преданий); их «создание» – во многом заслуга мемуаристов или публикаторов40. Нельзя не учесть и мнение Данилы Давыдова:
сколько-нибудь декларативные тексты написаны <Львом> Лосевым и Владимиром Уфляндом спустя много лет, в подчеркнуто мемуарном ключе. Занятно и то, что попытка Константина Кузьминского в первом томе его антологии «У Голубой лагуны» противопоставить «филологическую школу» «геологической» остается курьезом, т. к. воспринимается лишь как одномоментный срез места учебы тех или иных авторов, но не знак некой неуловимой общности41.
В общественном сознании по отношению к «Лианозовской группе» гораздо более утвердилось именно понятие «школа», причем, как и в случае с «группой», остается вопросом, насколько это понятие следует считать строго научным – насколько оно соотносится с понятиями «Озерная школа», «натуральная школа» или, если ближе к нашему времени, «Львовская», «Филологическая», «Ферганская школа» поэзии.
По словам М. Галиной,
региональные поэтические школы существуют или, во всяком случае, могут существовать. Но при определенных условиях – например, наличии некоей романтической «культурной географии», гения места, и вдобавок – должен быть лидер, вокруг которого конденсируется литературный процесс42.
В этом смысле «Лианозово» действительно можно считать литературной, и даже литературно-живописной «школой» – если избыточно не терминологизировать это понятие и идти скорее от его метафорического, в целом понятного реципиентам значения, чем от строго научного «школа – небольшое объединение литераторов на основе единых художественных принципов, более или менее четко сформулированных теоретически»43. Само значение этого слова диктует необходимость для возникновения школы фигуры Учителя, которую для «Лианозовской школы», безусловно, играл Евгений Кропивницкий44.
Известна значимость поэтов – старших современников, выходцев из Серебряного века для начинающих авторов в конце 1950-х – начале 1960-х годов: общение с еще живыми носителями культурного сознания рубежа веков, прежде всего реальными поэтами – с Борисом Пастернаком (1890–1960) для Андрея Вознесенского, с Алексеем Крученых (1886–1968) – для Геннадия Айги и Виктора Сосноры, с Игорем Бахтеревым (1908–1996) и Василиском Гнедовым (1890–1978) – для Сергея Сигея и т. д. Можно провести параллель между Кропивницким – и Ахматовой, чью конституирующую роль для так называемого «ахматовского кружка» следующим образом охарактеризовал Иосиф Бродский, отрицая при этом какое-то прямое влияние творчества Ахматовой на собственную поэтику:
…Каким-то невольным образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю, к этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих – почти всех – его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной щедрости, от нее исходивших45.
Собственно, непосредственными «учениками» Кропивницкого в его «Лианозовской школе» можно считать только Г. Сапгира и И. Холина, а также, вероятно, Э. Лимонова, который «совсем в другое время – в конце 60-х, как Холин и Сапгир, был учеником Евгения Леонидовича Кропивницкого»46. Переписка Кропивницкого с Холиным и Сапгиром47 показывает, что старший поэт нередко выступал в роли критика своих младших друзей, одобрял или не одобрял их произведения, подчас давал советы по доработке текстов – что вряд ли было бы возможно, если бы между ними не сложились дружески-иерархические отношения. Неслучайно Г. Сапгир в повести «Армагеддон» именно Кропивницкого взял за прототип своего героя Олега Евграфовича Пескова, который ведет одинокую жизнь вдовца в деревянном доме барачного типа без удобств в Долгопрудной, где его навещают друзья и единомышленники, причем в Плане к ранней редакции повести герой носит имя Платона Петровича (и имя, и отчество здесь обладают отчетливо позитивными коннотациями), а собрания у него названы «школой подмосковного Платона»48.
Об определенном эстетическом, а не только дружеском единстве свидетельствует и практика написания «лианозовцами» произведений, адресованных друг другу или изображающих своих товарищей в качестве персонажей, а также стилизованных в манере своих адресатов. Своеобразный протеистический дар Генриха Сапгира проявился в том, что он посвятил Кропивницкому целый ряд своих стихотворений49, в том числе и тонко стилизованные «Стихи, которые написал бы мой учитель Евгений Леонидович Кропивницкий, если бы был еще жив», включенные им в цикл «Стихи для перстня» (1981)50. Посвящает Сапгир свои произведения и Холину, делая его одним из их персонажей51. При этом отдельная важная тема – влияние на Сапгира и Холина минималистической поэтики Вс. Некрасова (см., напр., «Люстихи» Г. Сапгира или холинское стихотворение «Свет / Свет / Свет / Свет / Свет / Свят»52. Некоторые стихотворения Игоря Холина написаны в стилистике «Голосов» Генриха Сапгира (например, «Магазин / Грампластинок…» или «Симфония / для четырех ног»)53. В общем, такого рода не только образно-тематические, но и ритмико-интонационные, стилевые пересечения формируют общее поэтическое поле «лианозовской школы» – во многом сознательно со стороны их авторов. Если же говорить о взаимоотношениях между поэтами и художниками «Лианозова», то и они проявляются не только в дружеских связях, но и в аллюзиях в стихах «лианозовцев» (вплоть до упоминаний художников и прямых экфрасисов – а также в использовании мотивов и образов «барачной поэзии» в живописи)54.
Что касается вопроса о релевантности определения «русские конкретисты» применительно к поэтам «Лианозовской школы» – то этот вопрос требует рассмотрения в диахронии – и в соотнесении самой традиции обозначения известных литературных групп как, скажем, «русских символистов» или «русских футуристов». По важному замечанию Романа Лейбова,
Художественная литература (как и другие искусства) постоянно решает задачу освоения инокультурных канонических образцов и воспроизведения достигнутых культурных вершин (идет ли речь о проблеме «нашего Горация» или «нашей „Энеиды“»). Будучи направленным в прошлое, этот способ формирования «догоняющего» национального канона даст обращение к инокультурным классикам (такой подход характерен для эпохи складывания национальной литературы). Позже, в романтическую и постромантическую эпоху, более актуальной становится задача усвоения современных инокультурных образцов («наш Байрон», «наш Гейне», «наши символисты»)55.
Однако когда национальная литература, а не только отдельные ее представители, становится в ряд ведущих мировых литератур, что для русской культуры, по-видимому, наступило в последней трети XIX века, когда читающий мир узнал имена как минимум Достоевского, Толстого и Чехова, в такой форме усвоения иноэтнокультурных образцов уже нет необходимости – напротив, мировое поле литературы начинает восприниматься еще и как поле соперничества, где важны приоритет и самобытность. Так, если в 1894–1895 годах русский поэт Валерий Брюсов издает под псевдонимом «Валерий Маслов» 3 сборника «Русские символисты», ориентируясь на французских символистов, которых к тому времени знал, изучал и пробовал переводить, то уже русские футуристы всеми способами отказывались признавать свою генетическую близость с итальянскими футуристами, для чего, к примеру, фальсифицировали дату выхода первого коллективного сборника «Садок судей» (не в апреле 1910 года, а якобы в 1908 году, до «Манифеста итальянских футуристов» Томмазо Маринетти). Кроме того, они отказывались до конца 1913 года называть себя «футуристами», предпочитая русскую кальку «будетляне» или название группы «Гилея», а когда приняли, обозначили свое отличие при помощи приставки кубо-. Тем самым акцентировалась похожесть, но при этом самобытность русского футуризма и отсутствие зависимости от итальянских современников.
Однако в эпоху Большого Стиля – в 1930–1950-е годы – советская легальная культура искусственным образом была изолирована от большинства процессов, происходящих в западной культуре: этот «железный занавес» осторожно начали приподнимать только в так называемую эпоху «оттепели» в середине 1950-х годов. Ощущение разрыва связи не только с дореволюционной культурой России, но и общекультурных связей с мировым контекстом было сильно – во многом потому, что было не так много информации, что там, за границами, сегодня происходит. Сведения о новых именах и явлениях в поэзии собирали по крупицам, редкие сборники современной западной поэзии передавали из рук в руки, важной практикой освоения чужого опыта были попытки перевода или подражания западным образцам, однако, как правило, эти подражания носили характер упражнений, пробы сил56 (так, Владимир Эрль написал в 1964 году несколько стихотворений в подражание немецкоязычным конкретным поэтам, о существовании которых узнал из статьи Евгения Головина)57. Однако модернистский культ «новизны» и «приоритета» все еще давал о себе знать: в поэзии похожесть на западные первоисточники могла восприниматься как вторичность, этого было недостаточно для страны со своей мощной поэтической традицией. Выход к читателю за пределами «железного занавеса», как и соотнесение собственных поисков с тем, что уже существует в творчестве других близких по духу авторов, как соотечественников, так и представителей западного искусства, и, возможно, их синхронизация были актуальными задачами для ряда авторов неподцензурной литературы в период ее институциализации. Так, Вс. Некрасов само определение «школа» применительно к лианозовскому кругу выводил из этой установки на общий интерес друг к другу – и к тому, что возникает и развивается за пределами общего круга:
Близко так или иначе никакого оформления – условий, манифестов, программ – все равно не было. Не было самого вкуса, охоты самим себя обзывать, числить какой-то группой и школой. Зато был серьезнейший интерес (за свой-то ручаюсь) – а что там делают остальные? Так Лианозовская группа, которой не было, и формировала Лианозовскую школу, которой не было, но которая что дальше, то больше ощущается ого какой школой58.
Как известно, первыми публикациями произведений поэтов-«лианозовцев» на Западе стали перепечатка в 48 номере журнала «Грани» за 1965 год самиздатовского журнала «Синтаксис» А. Гинзбурга со стихами Некрасова, Сапгира и Холина. Однако как литературная группа или хотя бы дружеский круг поэты обозначены не были – возможно, из соображений их безопасности. Важное значение для продвижения «Лианозовской группы» в немецкоязычных странах сыграла публикация Лизл Уйвари шести русских неподцензурных поэтов, в том числе Сапгира, Холина и Некрасова, в № 6 за 1973 год австрийского журнала «Pestsäule», а также выпущенный ею в 1975 году на основе этой публикации двуязычный сборник «Freiheit ist Freiheit». Впрочем, самого понятия «Лианозовская школа» и в этой публикации не звучит, как не говорится и о том, что поэты знакомы между собою – возможно, потому что Лизл Уйвари понимала опасность такой характеристики для советских авторов. Зато делается важное заявление о сборнике:
…его цель – информировать немецкого читателя о поэтическом развитии, которое имело место в последние 10–15 лет в русском языковом пространстве. Сравнение результатов этого развития с литературными явлениями на Западе обнаруживает удивительные параллели: в России работа с языком проводилась тем же образом, что привел к возникновению конкретной поэзии59.
Как заметил Илья Кукуй, исследовавший историю рецепции «Лианозовской группы» в немецкоязычных странах, именно в предисловии к этому изданию впервые появляется сопоставление лианозовцев с поэтикой австрийских конкретистов»60. По крайней мере, опубликованные в 1967 году в антологии «Postavit vejce po Kolumbovi: poezie dvacátého století z celého světa» («Поставить яйцо после Колумба: антология поэзии двадцатого века из всего мира»), по свидетельству Алены Махониновой, «…стихи Некрасова не были замечены чешскими конкретистами, хотя виднейший из них, Йосеф Гиршал, был со-составителем данной антологии»61. При том что, добавим от себя, стихи Вс. Некрасова уже были хорошо знакомы славистам в Чехословакии по их публикациям в журнале «Tvář» (1964), газете «Student» (1966) и даже журнале для подростков «MY» (1966).
Чуть позже Эдуард Лимонов в изданном Михаилом Шемякиным альманахе «Аполлонъ—77» выступил со статьей манифестарного характера «Группа „Конкрет“», причем основу этой группы у него составляли как раз поэты «Лианозовской школы»:
Группа «Конкрет» является неотъемлемой частью русской неофициальной культуры. В нее входят восемь поэтов: И. Холин, Г. Сапгир, Е. Щапова, Я. Сатуновский, В. Некрасов, В. Бахчанян, В. Лен, Э. Лимонов. Группа образовалась в 1971 году в Москве. Возраст поэтов самый различный – от 60 лет до 20 с небольшим. Объединились уже сложившиеся поэты, сформировавшиеся вне группы, а не начинающие авторы.
Пылких манифестов мы не писали. Просто, в результате длительного знакомства друг с другом мы увидели, что у нас творчески много общего, все мы хотим от поэзии приблизительно одного и того же. Мы считаем, что современная русскоязычная поэзия отдалилась от первоосновы всякой вообще поэзии – от конкретного события, от предметов, стала выхолощенной, абстрактной и риторичной, «литературной». Мы хотели вернуть поэзии ее конкретность, которая была у Катулла и средневековых лириков, у Державина и в народном фольклоре <так!>. Отсюда и название «Группа конкретной поэзии», или группа «Конкрет»62.
Как верно заметил Владислав Кулаков, Лимонов понимает «московскую конкретную поэзию как „конкретный реализм“ в смысле сугубого натурализма»63, тем самым упуская из вида куда более важные связи между поэтами-«лианозовцами» и европейскими конкретными поэтами, касающиеся прежде всего их работы с языком, со словом. Не случайно только в творчестве Вс. Некрасова Лимонов усмотрел схожесть с опытами «современных германоязычных поэтов, в частности Питера <так! – М. П.> Хандке»64. Как указал Илья Кукуй, Лимонов использовал именно идею Лизл Уйвари сравнения этих поэтов с немецкими конкретными поэтами65, однако если Лизл Уйвари адресовалась немецкоязычным читателям, ища в знакомой им немецкоязычной поэзии аналогии тому, с чем они встретятся в творчестве русских неподцензурных авторов, то адресатом Лимонова были все-таки читатели русскоязычные или хорошо знающие русский язык и культуру. По-видимому, представление опубликованных в альманахе «Аполлонъ—77» поэтов как «группы „Конкрет“» для него было скорее формой культурного брендирования – имени, под которым поэты этой группы могли бы впоследствии продвигать свое творчество на читательском рынке. Не случайно в группу Лимонов включил не только себя, но и свою жену – поэтессу Елену Щапову.
Свою версию возникновения самого понятия «Группа «Конкрет» дал в одном из своих поздних интервью Генрих Сапгир:
Потом приехал из Харькова Лимонов, тоже стал ходить к Кропивницкому, – позднее возник «Конкрет» <…> Этот термин возник в наших разговорах с Лимоновым. Раньше об искусстве много говорили. Ходили и говорили. А «Конкрет» – это уже 1970-е. <…> Так вот, мы ходили и беседовали: что, дескать, мы не хотим метафор, что наш идеал – Катулл, а потом нас всех напечатали в австрийском журнале. И Лимонов придумал нам общее имя – «КОНКРЕТ»66.
Соотнесение творчества круга русскоязычных авторов с мировой (или ýже – немецкоязычной конкретной поэзией) является проблемой еще и потому, что само это определение не имеет общепринятых границ и дефиниций. Известно, что само понятие «конкретная поэзия» в последнее время приобретает расширительное значение: по мнению германиста и исследователя поэзии Германна Корте (Hermann Korte),
Конкретная поэзия стала синонимом всех литературных опытов, связанных с такими ее разновидностями, как поэзия визуальная, акустическая, элементарная, материальная, экспериментальная, даже абстрактная, и в которых процессы комбинирования, редукции, конструирования, игры, коллажа и монтажа становятся значимыми в качестве принципов создания текста67.
Как среди русскоязычных, так и среди исследователей других стран стало распространенным также использовать понятия «конкретная» и «визуальная» поэзия как синонимы, что также затемняет вопрос, распространяя понятие «конкретная поэзия» на широкий круг имен явлений поэзии далеко не только второй половины ХХ века, что неоднократно становилось предметом критики со стороны исследователей68. Такой подход не учитывает, что «конкретная поэзия», так же как и «Лианозовская школа», – явление в литературе, связанное не только рядом общих формальных приемов, но и определенным кругом авторов, сложившихся в определенное время и в определенном месте (местах) – объединенных как дружескими (а подчас и родственными) связями, так и кругом общих ценностей и идей. Если говорить о немецкоязычной «конкретной поэзии» – наиболее близкой и знакомой поэтам Лианозова, то это явление, как известно, возникло после войны как реакция на кризисное состояние и немецкого языка, инфильтрованного идеологической лексикой и риторикой национал-социализма, и немецкой культуры в целом. В определенном смысле «конкретная поэзия» была аналогом «литературы руин» (Trümmerliteratur), о которой говорил Генрих Бёлль, но касалась главным образом поэзии, а не прозы, причем поэзии подчеркнуто неконвенциональной, нетрадиционной, экспериментальной, и атаковала прежде всего то, что является зоной ответственности поэзии – а именно язык и инстанцию «лирического субъекта». Характерно и то, что в немецкоязычной «конкретной поэзии» обнаруживаются литературные группы – «Венская группа» (Wiener Gruppe, 1954–1964; основные представители Ф. Ахляйтнер, Х. К. Аргманн (до 1957), К. Байер, Г. Рюм и О. Винер)69 и «Штуттгартская школа/группа» (Stuttgarter Schule/Gruppe: Макс Бензе, Рейнхард Дёль, Людвиг Хариг, Герхард Рюм, Гельмут Хейссенбюттель, Эрнст Яндль и Фридерика Майрёкер)70. Не один из «конкретных» авторов имел склонность к манифестированию и даже теоретизированию своей творческой позиции – в результате мы имеем несколько конкурирующих между собою концепций «конкретной поэзии», как правило, разработанных в рамках персональных творческих практик авторами конкретной поэзии. Так, для близкого своими поисками к поэтам Лианозова Францу Мону «конкретная поэзия», в отличие от «визуальной», не отказывается от вербальной семантики, когда графический облик слова используется более как средство изобразительности (в пределе стремясь превратиться в живопись, использующую слова и буквы в качестве равноценных элементов другим средствам живописной изобразительности), но скорее разрушает линеарность связного текста. Тем самым усиливает роль реципиента, который не собирает заново руинированный автором связный текст, а работает с художественным высказыванием, изначально организованным нелинеарно (ненарративно). Близко это понимание Ойгену Гомрингеру, разрабатывавшему поэтические «констелляции» – своего рода «вербальные созвездия» на плоскости листа, связь между элементами которого (как и траектория чтения) отдается на откуп читателю. При этом, пытаясь очертить основные течения в русле конкретной поэзии, Макс Бензе и Рейнхард Дёль выделили шесть ее разновидностей:
1. буквы = буквоконстелляции = букво-картины;
2. знаки = графическая констелляция = шрифто-картины;
3. сериальная или пермутационная реализация = метрическая и акустическая поэзия;
4. звук = звуко-констелляция = фонетическая поэзия;
5. стохастическая и типологическая поэзия;
6. кибернетическая и материальная поэзия71.
Такое многообразие конкретистских практик и концепций, с одной стороны, вызывало естественный интерес со стороны многих «неподцензурных поэтов» – далеко не только поэтов «Лианозовской школы»: характерные конкретистские опыты мы находим у «трансфуристов» Сергея Сигея, Ры Никоновой, А. Ника и Владимира Эрля, благодаря знакомству с последним – у Леонида Аронзона; у Александра Очеретянского и Вилена Барского, издавших в 1985 году сборник «Конкретная поэзия», в который они включили, помимо некоторых из вышеупомянутых поэтов, также Вагрича Бахчаняна, разрабатывавшего фигуративность стихографики через буквальную реализацию вербальной семантики, ленинградских «неофутуристов» Александра Кондратова и Константина К. Кузьминского, а также художника, экспериментировавшего в области «визуальной поэзии», Юрия Галецкого72.
С другой стороны, мы видим, что сами «лианозовцы» не спешат признать себя «конкретными поэтами»: так, против этого прямо выступил Всеволод Некрасов, не признавая ни существования группы «Конкрет», ни своей зависимости от немецкоязычных конкретных поэтов («Группа конкрет – чистый вымысел»73; «чушь заведомая» – пишет он в статье «Азарт Нихтзайн-Арта, или Хроника немецко-моих отношений по порядку» в книге «Дойче Бух»74).
Некрасов неоднократно подчеркивает, что он самостоятельно вышел на круг проблем и приемов, которые отличают представителей европейского конкретизма:
Но к тому времени были у меня те же «Рост», «Вода», «Свобода», кое-что Броусек успел напечатать в чешском «Тваж» <…>. До конкретности и кому чего надо доходили больше порознь и никак не в подражание немцам, а в свой момент по схожим причинам75.
Действительно, для Всеволода Некрасова важна была не принадлежность к некоторой «группе» или «школе», что обычно означает наличие некоторой «групповой эстетики», от чего он был далек (а в советское время, повторим, эта принадлежность могла еще и создать проблемы). Но для него крайне важна близость общих поисков и творческих принципов с европейскими поэтами. Это подчеркивало включенность того, что делает сам Некрасов и другие поэты, в мировой – по крайней мере, в общеевропейский – контекст. Поэтому, с одной стороны, он настаивал на самостоятельности своей поэтики, с другой – признавал похожесть его собственных поисков и поисков его коллег-конкретистов.
Так, анализируя стихотворение Герхарда Рюма «alles», Всеволод Некрасов пишет о типологическом схождении его собственного поэтического опыта и опытов европейских конкретистов:
…году в 60–62… та же волна проходила через нас, через меня (волна не информации – ее не было, ни о немецких, ни о каких других конкретистах мы ничего не знали – а просто волна состояния)76.
Интересно и мнение поэта Михаила Сухотина, исследовавшего конкретистские черты поэзии Всеволода Некрасова: соглашаясь с утверждением поэта, что он начинал свое творчество независимо от немецких коллег, исследователь пишет:
Итак, если к 65 году поэтика Некрасова имела в себе уже все черты конкрет-поэзии, оформившись независимо от сходных процессов в Европе, и воспринималась им самим как «новая», то к концу 60-х в ней видны следы непосредственного влияния немецких конкретистов, среди которых Гомрингеру принадлежит особое место77.
Действительно, в ряде текстов Некрасова можно обнаружить следы рецепции конкретных произведений немецкоязычных авторов: поэт вступает с ними в диалог, а не перенимает как ученик их манеру. Поэтому Вс. Некрасов доброжелательно относился к переводческой и просветительской деятельности творческого тандема Георга Хирта и Саши Вондерс – псевдонимы Сабины Хэнсген и Георга Витте, которые стали основными агентами творчества поэта и всей «Лианозовской школы» в Германии. Именно они выпускают в 1984 году знаменитый двуязычный сборник русских концептуалистов Kulturpalast78, который открывает большая подборка Вс. Некрасова как предшественника и основоположника русского концептуализма, свою принадлежность к которому – не как к группе, но как к течению в искусстве – Некрасов не отрицал, хотя и трактовал по-своему. Они же выпустили и каталог выставки «Лианозово – Москва: Картины и стихи»79, прошедшей в Москве, Бохуме и Бремене в 1991–1992 годах: каталог включал двуязычные публикации стихотворений Кропивницкого, Некрасова, Сатуновского, Холина и Некрасова, а также кассету с чтением их стихотворений и подборку открыток80.
Подчеркивая сходство некоторых сторон поэзии Некрасова с опытами немецкоязычных конкретных поэтов, Хэнсген и Витте настаивали на самостоятельности и самоценности русского автора. При этом показательно, что подготовленную ими двуязычную книгу переводов Некрасова «Живу и вижу / Ich lebe ich sehe» составители и переводчики открыли уважительным предисловием старейшего из немецких конкретистов Ойгена Гомрингера «Живу и вижу – лирика мира по-русски» («„Ich lebe ich sehe“ – Lyrik der Welt russisch»), а в саму книгу включили размышления Некрасова над стихотворениями Гомрингера и Рюма81.
При этом Некрасов вел довольно последовательную полемику с известным исследователем и пропагандистом современного русского искусства на Западе Борисом Гройсом, который, с точки зрения поэта, претендовал на роль еще и теоретика русского концептуализма, принижая значение для него Некрасова. Русский поэт отказывался признавать новую художественную реальность, в которой околохудожественные институции, прежде всего исследователи и кураторы, формируют современный канон. Ему, можно так сказать, была ближе позиция Гарольда Блума, который считал, что каждый «сильный автор» вступает в соревнование с предшественниками – а мы можем добавить, что роль такого рода предшественников для русских неподцензурных поэтов нередко играли и современные им западные авторы, которые, в отличие от них, оставались в культурном процессе, не были от него изолированы. Согласно Блуму, «сильный» автор подвергает тексты своего предшественника радикальной трансформации, лежащей в основе оригинальности и «странности» новых текстов. Эту трансформацию Блум называет «ошибочным чтением» (misreading) и понимает ее как следствие «страха влияния» (anxiety of influence) перед автором-предшественником. При этом в книге «Западный канон» ученый пишет, что «сильный» автор сам канонизирует себя:
Пробиться в канон позволяет одна лишь эстетическая сила, которая есть прежде всего амальгама: владение образным языком, самобытность, когнитивная сила, эрудиция, яркость стиля82.
Для Вс. Некрасова все окололитературные институции – лишь инфраструктура, призванная обслуживать художника, а не «делать» его, они инструментальны, и поэтому в книге «Дойче Бух» он отвечает Борису Гройсу:
Искусство, литературу-поэзию делают никак не кураторы и координаторы, как не директора, не редактора, не комментаторы-интерпретаторы, даже не спонсоры, а исключительно авторы. И живет искусство не по программам-проектам, все наоборот83.
Поэту важен факт его совместных выступлений в Бремене с конкретистами Г. Рюмом и Ф. Моном – это выступление он описывает в книге «Дойче Бух». При этом поэт готов считаться «конкретистом» или «концептуалистом» в отдельных своих произведениях, но не готов относить себя к какой-то группе или конкретному течению в поэзии – разве что к достаточно широкому кругу единомышленников.
Подобным образом поступали и некоторые другие поэты «Лианозовской школы». Так, Игорь Холин никогда не назвал свое творчество «конкретистским»: ему иногда приписывают авторство другого понятия – «барачная поэзия», отталкиваясь от названия его первого цикла «Жители барака» (по аналогии с «барочной поэзией»)84. Однако в самом начале 1970-х годов им был составлен небольшой цикл стихотворений «Поп- и конкрет-стихи», некоторые из которых были близки немецкоязычным конкретистам85. Тем самым он демонстрировал, что конкретная поэзия для него – одна из возможных поэтических форм, но не главная в его творчестве.


