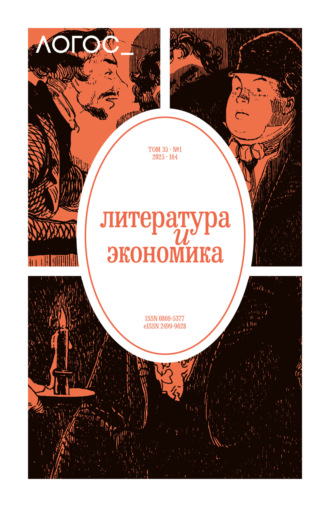
Коллектив авторов
Журнал «Логос» №1/2025
Календарь событий
Первый том романа «Мертвые души» начинается с приезда Чичикова в город NN и заканчивается его спешным отъездом из города. «Три недели сидели на месте», – говорит Чичиков в день отъезда[44]. В тексте достаточно четко описывается хронологическая последовательность событий[45].
1-й день. Приезд, заселение в гостинице, прогулка по городу.
2-й день. Чичиков наносит визиты, на вечеринке у губернатора знакомится с Маниловым и Собакевичем.
3-й день. Обед и вечер у полицмейстера, знакомство с Ноздревым.
4-й день. Вечер у председателя палаты.
5-й день. Вечер у вице-губернатора.
6-й день. Обед у откупщика.
7-й день. Закуска после обедни у городского головы.
8–9-й дни. Чичиков прожил в городе более недели, приятно проводя время, и, наконец, решил навестить помещиков Манилова и Собакевича. Может показаться, что Чичиков напрасно тратил время, но это не так. Он обзавелся полезными знакомствами со всеми влиятельными персонами, собрал сведения о ситуации в губернии. Употребляя современную терминологию, Чичиков изучил рынок и включился в местную социальную сеть – это поможет ему в дальнейшем. Конечно, все это можно было сделать быстрее, но как получилось, так получилось. Будем считать, что «более недели» – это 7 + 2 дня, то есть вся подготовка заняла 9 дней.
10-й день. Чичиков приезжает к Манилову. Тот не знает, сколько крестьян у него умерло, но, будучи очарован общением с Чичиковым, соглашается бесплатно отдать ему все свои мертвые души и даже обещает взять на себя издержки по оформлению сделки.
Уехав из имения Манилова, Чичиков сбился с пути и уже поздно вечером попадает в деревню помещицы Коробочки. У нее он остается на ночлег.
11-й день. Утром Чичиков ведет непростые переговоры с Коробочкой, которая все же соглашается продать ему 18 мертвых душ за 15 рублей. Чичиков дарит ей лист гербовой бумаги ценой 1 рубль.
Уехав от Коробочки, Чичиков заезжает в трактир, где встречается с Ноздревым. Тот зазывает Чичикова к себе. Чичиков соглашается, остается ночевать у Ноздрева.
12-й день. Сделка с Ноздревым не состоялась. Попытка играть с ним в шашки на мертвые души закончилась ссорой, и Чичиков смог выбраться, едва избежав побоев.
Приехав к Собакевичу, Чичиков сталкивается с настоящим деловым человеком. По-видимому, Собакевич сразу понял, зачем его собеседнику понадобились мертвые души. Зная, что крепостных можно заложить по 200 руб. за душу, он запрашивает за душу 100 руб. Таким образом он и Чичиков получили бы одинаковую выгоду. Однако Чичиков как покупатель смог воспользоваться своим монопольным положением и сбил цену до 2,5 руб. за душу. Собакевич, правда, слегка надул Чичикова. Тот покупал только умерших крестьян мужского пола, поскольку в банке в залог брали только мужчин. Собакевич включил в свой реестр мертвых душ женщину по фамилии Воробей, записав ее имя так, чтобы оно было похоже на мужское – Елизаветъ. К сожалению, в тексте не сообщается, сколько душ Чичикову удалось купить у Собакевича.
Уехав от Собакевича, Чичиков в тот же день посещает Плюшкина. В книге Елены Чирковой сформулирован вопрос:
… есть ли в русской литературе образ помещика или помещицы, дела у которого идут хорошо, особенно после отмены крепостного права? До отмены – да. Я бы отнесла к ним персонажей «Мертвых душ», например Коробочку или Плюшкина. Хоть Гоголь и не пишет об этом, подозреваю, что дела у этих персонажей, у которых зимой снега не выпросишь, шли прекрасно[46].
О деревне Коробочки Гоголь действительно не пишет, но картина разрухи в хозяйстве Плюшкина нарисована яркими красками. Уже при въезде в его имение Чичиков заметил
… какую-то особенную ветхость… на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето[47].
И сам дом помещика выглядел «каким-то дряхлым инвалидом». Прекрасно идут дела у другого персонажа романа, у Собакевича:
Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирченых стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все… было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке[48].
Именно то, что Плюшкин довел свое хозяйство до полной разрухи, позволило Чичикову сделать самую дешевую покупку. У Плюшкина оказалось 120 с лишком умерших крестьян. При всей своей скупости он не может адекватно оценить своей выгоды: когда Чичиков изъявил готовность платить подати за всех умерших, Плюшкин согласился передать их Чичикову и был весьма доволен, что затраты на оформление купчей тот берет на себя[49].
Подушную подать за умерших крестьян действительно надо было продолжать платить – вплоть до следующей ревизии, и в рассматриваемый период она составляла 3,5 рубля в год. Если считать, что «120 с лишком» это 124, то годовой платеж равнялся 434 руб. Экономия, достигаемая избавлением от этих душ, очевидна, но в тексте нет никакого упоминания о том, что Чичиков за них что-то платит. Получается, что сами мертвые души Плюшкина он получает бесплатно.
Денежные расчеты происходят только тогда, когда речь заходит о беглых крестьянах. Их у Плюшкина 78 человек. Чичиков готов их купить. «А сколько бы вы дали? – спросил Плюшкин и сам ожидовел; руки его задрожали, как ртуть»[50]. Чичиков предлагает 25 коп. за душу при оплате сразу, наличными. Плюшкин просит 40, Чичиков готов дать только 30. Плюшкин все же просит «по две копеечки пристегнуть» и получает согласие. Чичиков определяет итог:
Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет… – здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: – это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! – он был в арифметике силен[51].
Чичиков считал в уме, и в одном из вариантов романа говорилось, что «Плюшкин поверял и два, и три раза на счетах, а все выходило так»[52]. Здесь Гоголь допускает незначительную неточность, которую ранее никто не замечал. Хотя Чичиков говорит, что цена – 30 коп., расчет он ведет исходя из цены, на которую дал согласие, – 32 коп. Сумма в 24 руб. 96 коп. получается при умножении 78 на 32, а не на 30 коп.
В результате Чичиков заплатил только за беглых, а мертвые души достались ему даром. Неудивительно, что он покинул деревню Плюшкина в самом веселом настроении: состояние Чичикова увеличилось на «двести с лишком душ» (полагаем, что он получил 202 души, 124 + 78 = 202). В гостиницу он вернулся совсем поздно.
13-й день. Утром Чичиков проснулся и «вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ». Не мешкая, он занялся оформлением документов. Чтобы не платить ничего подьячим, Чичиков сам составил купчие крепости – за два часа он подготовил все бумаги и отправился в гражданскую палату. Поначалу чиновник, занимавшийся оформлением купчих крепостей, отказался оформить бумаги в тот же день, несмотря на то что Чичиков сослался на знакомство с председателем палаты. Но небольшая взятка[53] сыграла свою роль – документы были зарегистрированы и переданы председателю палаты.
Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей[54].
Чичиков должен был заплатить пошлину за совершение покупки – половину процента от общей суммы. Но председатель приказал взять с него только половину пошлинных денег, а вторая половина была отнесена на счет другого просителя. Все было оформлено быстро.
Поначалу Чичиков собирался уже на следующий день уехать из города, что было бы совершенно правильно. Однако все пошло не так. Председатель палаты не хотел отпускать Чичикова, не организовав банкета, чтобы отметить сделку. На банкете чиновники стали уговаривать Чичикова задержаться в городе, даже обещали подобрать ему невесту. Чичиков был так доволен заключенными сделками, что расслабился, прилично выпил и решил остаться погостить.
14–15-й дни. В принципе его можно понять: дело сделано, можно сначала отдохнуть, а потом поехать в банк оформлять кредит под залог купленных душ. Правда, в залог можно было отдавать только крестьян с землей, а земли у Чичикова не было. Официальная версия Чичикова, которую он всем озвучивал, заключалась в том, что крестьяне куплены на вывод. Он собирался поселить их в деревне, которую назвал бы «Чичикова слободка» или «сельцо Павловское»[55].
На самом деле задачей Чичикова было только получение денег. Каким-то образом он решил бы вопрос о земельном владении. Для банка он предоставил бы свидетельства о собственности на землю, должным образом зарегистрированные договоры о покупке крестьян (купчие крепости) и судебные решения о переселении крестьян. При необходимости он был готов даже предоставить дополнительные справки о крестьянах от капитана-исправника (несомненно, за взятки). Кредит Чичиков собирался брать в Сохранной казне Опекунского совета Воспитательного дома – это был небанковский финансовый институт, занимавшийся не только благотворительной деятельностью, но и ломбардным кредитованием.
Между тем в городе начались разговоры и споры о Чичикове. Обсуждались вопросы, связанные с выводом крестьян на большое расстояние, думали о целесообразности и возможности найма хорошего управляющего для имения Чичикова. Рассуждали даже о том, не разбегутся ли его крестьяне. На это, впрочем, Чичиков отвечал, что его крестьяне – народ смирный. Словом, общественное мнение было взволновано. Однако вскоре произошли события, которые все изменили.
Помещица Коробочка с большим трудом поддалась на уговоры Чичикова продать ему мертвые души. Ее одновременно заботило и то, как же можно продать мертвецов, и то, какова должна быть на них правильная цена, – она очень боялась продешевить. Коробочка
… вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в город[56].
Когда это произошло? Чичиков купил у Коробочки мертвые души на 11-й день со дня приезда. Она пришла в беспокойство «вскоре». Это вряд ли один день, тогда Гоголь написал бы «назавтра», и, наверно, три дня – это уже слишком долго. Скорее всего, можно говорить о двух днях. Затем она три ночи не спит. Итак, она приезжает в город NN на 16-й день, поздно вечером (11 + 2 + 3 = 16).
16-й день. В этот день у губернатора состоялся большой бал, на котором появился Ноздрев и совершенно неожиданно для Чичикова громогласно раскрыл его тайну. Ноздрев всем рассказал, что Чичиков хотел купить у него мертвые души. Все знали, что Ноздреву верить нельзя, более того, вскоре выяснилось, что он был пьян, и его вывели. Однако Чичиков был совершенно выбит из колеи и уехал к себе намного раньше, чем обычно.
17–19-й дни. Чичиков получил легкую простуду, флюс и воспаление в горле и решил денька три посидеть дома.
Сообщение Ноздрева и рассказы Коробочки взбудоражили город. Дамы решили, что Чичиков влюблен в дочку губернатора и хочет ее увезти. Мужчины сосредоточились на обсуждении мертвых душ. Чиновники были крайне озабочены изменениями в вертикали власти – было известно, что в губернию был назначен новый генерал-губернатор. Пошли разные толки о том, что могли значить мертвые души – не содержался ли в этом намек на прежние злоупотребления. Попробовали расспрашивать продавцов, но от них ничего не добились. Манилов лишь хвалил Чичикова, Собакевич высказал аргумент, которым впоследствии мог бы защищаться и сам Чичиков: в момент покупки крестьяне были еще живы, но вполне могут умереть от болезней при переселении. Ноздрев же понес такую околесицу, что от него отступились.
Инвестиционный проект Чичикова вступил в кризисную фазу, но ему чрезвычайно повезло. Во-первых, провинциальные чиновники не были знакомы с банковскими операциями и никак не могли понять, зачем Чичикову могут быть нужны мертвые души. Во-вторых, российская Фемида была нерасторопна по отношению к предпринимателям. Прокурор вместо быстрого заведения уголовного дела против Чичикова думал, думал да и умер от сомнений. Случай, бесспорно, уникальный в истории бизнеса.
Владимир Набоков иронично заметил:
Пытаясь покупать мертвецов в стране, где законно покупали и закладывали живых людей, Чичиков едва ли серьезно грешил с точки зрения морали[57].
Но нарушение моральных норм – не то же самое, что нарушение закона. Неизвестно, о чем думал прокурор, возможно, он пытался понять, под какую статью можно было бы подвести деятельность Чичикова.
20-й день. Утром Чичиков вышел в город и быстро обнаружил, что отношение к нему радикально изменилось – в дом губернатора его даже не пустили. Вечером к Чичикову пришел Ноздрев с предложением помочь увезти дочку губернатора и с просьбой дать денег взаймы. Потрясенный Чичиков решил поскорее уехать.
21-й день. Рано утром уехать не получилось: пришлось подковать лошадей и починить коляску. Чичиков был очень сердит на слуг, поскольку за три недели они так и не собрались этого сделать. Но все же лошади были подкованы, коляска починена и Чичиков отправился в путь. По дороге он встретил похоронную процессию – она шла за гробом прокурора. Чичиков решил, что это хорошая примета: «покойника встретить – к счастью». Постепенно он забывает о своих неприятностях.
Итак, Чичиков покинул город NN. Позади остались чиновники, помещики, дамы, губернаторская дочка. Постепенно он успокаивается. У него с собой документы, подтверждающие, что он имеет без малого 400 душ. Впереди его ждет светлое будущее.
Анализ проекта
Экономика проекта Чичикова практически не привлекала внимания исследователей. Отметим, что краткие комментарии по этому поводу есть в уже упоминавшейся книге Чирковой. Она почему-то считает, что у Плюшкина души куплены по 25 коп., и «для простоты» предполагает, что в среднем все купленные у помещиков души обошлись Чичикову по одному рублю[58]. Книга написана в популярном стиле, и от нее, вероятно, не стоит ожидать строгого экономического анализа.
Приведем еще одно высказывание Набокова. Когда Чичиков, уехав из города NN, «опять в дороге», ему встречается
… пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст (обратите внимание на это постоянное баловство с цифрами: не пятьсот и не сто – даже числа у Гоголя обладают индивидуальностью)[59].
В связи с этим возникает вопрос: насколько вообще правомерно пытаться дать точный анализ экономических параметров действий Чичикова? Как бы Гоголь отнесся к такого рода расчетам? На это можно ответить так. Прежде всего, нужно учитывать специфику стиля и общий взгляд Набокова на творчество Гоголя. Никакого особенного «баловства с цифрами» у Гоголя не было. Его цифровые данные достаточно аккуратны и порой являются результатом подготовительной работы. Так, в первой черновой редакции текста поэмы у Плюшкина было 75 беглых крестьян, а не 78, как в итоговом тексте, и сумма денег, которую Чичиков за них заплатил, была округлена до рублей[60]. Однако важнее то, о чем говорилось выше: текст, созданный Гоголем, существует, и для понимания этого текста, а также действий героев возможен и даже необходим аккуратный экономический анализ.
Каковы стартовые условия проекта Чичикова? После различных поворотов в карьере
… удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка[61].
10 тыс. руб. – немного, но все же неплохо для стартапа. Попробуем оценить эффективность проекта, исходя из данных, приведенных в книге. Начнем с оценки доходов – стоило ли вообще начинать?
Ожидаемые доходы
В результате своих операций Чичиков получил несколько меньше, чем 400 душ. Будем считать, что речь идет о 395 душах. В тексте книги упоминается, что при залоге крестьянских душ в Опекунском совете можно получить 200 руб. за душу[62]. Банки предоставляли кредит в размере половины рыночной стоимости, то есть рыночная цена одной души – 400 руб. Эта величина вполне соответствует действовавшему на тот момент законодательству. В уже упоминавшемся императорском указе от 24 ноября 1821 года устанавливались минимальные цены на ревизскую душу мужского пола для различных губерний. Чичиков предполагал, что по документам его крестьяне будут числиться в Херсонской губернии. Эта губерния относилась ко второму классу, и для нее цена ревизской души как раз составляла 400 руб. Поэтому ожидаемый валовый доход: 200 x 395 = 79 тыс. руб.
При оформлении кредита Сохранная казна взимала комиссию в размере 1,5 % от выдаваемой суммы. Поэтому доход Чичикова составил бы 77 815 руб. Поскольку, как отмечалось выше, события происходят в начале 1830-х годов, при долгосрочном кредите в 37 лет с заемщика не взимался вычет в пользу инвалидов в размере 5 %. (Эта норма была введена с 1 января 1830 года.) Очевидно, что Чичиков постарался бы взять именно такой кредит, с самым большим сроком до погашения. Отметим, что к этому же второму классу относилась и Нижегородская губерния, где находилось имение Кистенево, в котором Пушкин владел 200 крепостными. Он тоже получил за своих заложенных крестьян по 200 руб. за душу. Предполагаемый кредит Чичикова примерно в два раза больше, чем реальный кредит, который Пушкин получил в Сохранной казне[63].
Издержки
Точную оценку расходов Чичикова дать сложно: не хватает данных о структуре покупок. У Коробочки куплено 18 душ за 15 руб. (правда, пришлось подарить ей гербовую бумагу ценой в 1 рубль), у Плюшкина – 78 беглых крестьян куплено по 32 коп. за душу и 124 мертвые души получено бесплатно, всего 202 души. Манилов души подарил, но их число не приведено, нет и числа душ, купленных у Собакевича, известна лишь их цена – 2 руб. 50 коп. за душу.
От общей величины в 395 душ на долю Манилова и Собакевича приходится 175 душ (395–202 – 18 = 175). Данных о различиях в смертности в двух поместьях, конечно, нет, но все же можно предположить, что у крепкого хозяина Собакевича умирает меньше крестьян, чему у мечтателя Манилова. Думается, можно предположить, что на долю Манилова приходится 100 душ, а на долю Собакевича – 75. Тогда Чичиков заплатил Собакевичу 187 руб. 50 коп. Отметим, что Собакевич потребовал у Чичикова задаток – 25 руб. Это около 13 % от суммы сделки – нормальная для делового оборота величина.
Общие издержки Чичикова по покупке мертвых душ составили 228 руб. 46 коп. (16 руб. Коробочке + 24 руб. 96 коп. Плюшкину + 187 руб. 50 коп. Собакевичу). Средняя цена – около 58 коп.
Отдельной статьей расходов при купле-продаже были затраты на регистрацию сделок. Для записей должна была использоваться гербовая бумага. Ее цена определялась уже упоминавшимся указом от 24 ноября 1821 года и зависела от суммы регистрируемой сделки. Независимо от того, что Чичиков на самом деле платил помещикам, в бумагах должна была фигурировать какая-то нормальная цена. Минимальная цена крепостных душ фиксировалась тем же указом и зависела от того, к какому классу относилась губерния, в которой совершалась покупка. Логично предположить, что в документах Чичиков и его контрагенты указывали минимально допустимые цены крепостных душ. Выше показано, что речь шла о Пскове, следовательно, цена, указанная в купчих крепостях за каждую душу, была 250 руб. Официальная сумма сделки – 98 750 руб. (395 душ x 250 руб.)
Теперь можно определить цену использованной для регистрации гербовой бумаги. Всего было четыре сделки, их величины составляли: с Маниловым – 25 000 руб. (100 x 250), с Коробочкой – 4 500 руб. (18 x 250), с Собакевичем – 18 750 руб. (75 x 250), с Плюшкиным – 50 500 руб. (202 x 250). Манилов взял издержки на себя. Цены гербовых листов зависели от величины регистрируемых сделок. Гербовый лист для записи сделки с Коробочкой стоил 5 руб., с Собакевичем – 40 руб., с Плюшкиным – 120 руб. Итого: 165 руб.
Пошлина за покупки должна была составить половину процента от 98 750 руб., то есть 493 руб. 75 коп. Но председатель судебной палаты приказал записать на Чичикова только половину, следовательно, Чичиков заплатил только 246 руб. 87,5 коп. Таким образом, издержки, связанные с регистрацией, составили около 412 руб. (165 + 247), а с учетом взятки – 437 руб. Это даже больше, чем ушло на сами покупки.
Общая сумма, которую потратил Чичиков на проект мертвых душ: 665 руб. 46 коп., а предполагаемая выручка должна была составить 77 815 руб. При позитивном развитии событий Чичиков добился бы блестящего результата. Затратив меньше 7 % стартового капитала, он мог бы получить прибыль, более чем в 115 раз превышающую затраты. Однако высокая прибыль, как известно, связана с высоким риском.
При реализации своего инвестиционного проекта Чичиков совершил несколько серьезных ошибок. Во-первых, его маркетинг был слишком агрессивным. Совершенно не нужно было пытаться покупать души у Ноздрева и Коробочки. Ноздрев просто ненадежен, с ним вообще невозможно вести никаких дел. Хотя с Коробочкой и удалось договориться, но у нее куплено всего 18 душ – это 4,5 % от общего количества. Эту ошибку Чичикова хорошо сформулировал Набоков:
Глупостью было торговать мертвые души у старухи, которая боялась привидений, непростительным безрассудством – предлагать такую сомнительную сделку хвастуну и хаму Ноздреву[64].
Вторая крупная ошибка Чичикова – несоблюдение временных рамок проекта. Сначала все шло в достаточно хорошем темпе – девять дней в городе на предварительное изучение рынка, три дня поездок для переговоров с помещиками и уже на следующий день – завершение оформления документов по всем покупкам. Транспортные проблемы (пьяный кучер, поиск дороги) оказались несущественными. Однако Чичиков решает задержаться в городе на несколько дней и в результате теряет контроль над процессом: о скупке мертвых душ становится известно в городе (как от Ноздрева, так и от Коробочки). Ему приходится скрытно его покинуть.


