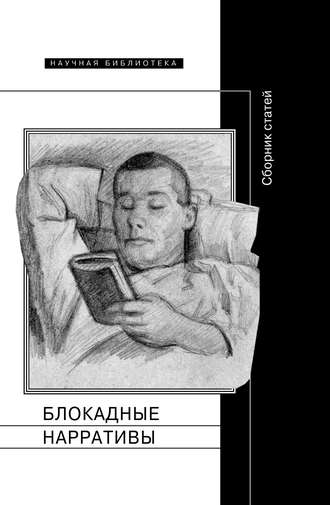
Коллектив авторов
Блокадные нарративы (сборник)
«Говорит Ленинград» вышла первым изданием в 1946 году как документальная книга – с подзаголовком «Сборник радиовыступлений за 1941–1945 годы». В 1967 году Берггольц не только снимает подзаголовок, но и пишет большое лирическое вступление «Об этой книге» и добавляет в конце два очерка – «Вечно юный» (1957) и «Ленинский призыв» (1959). Новая «рама» сильно смещала акценты, поскольку тематически, стилистически и функционально-идеологически отличалась от основного корпуса текстов. Тексты эти были посвящены повседневности блокады, тогда как вступление и добавленные очерки – либо воспоминаниям о времени работы в Радиокомитете, либо вовсе – о событиях, происшедших после войны. Тексты книги выдержаны в разговорно-публицистической манере – это были радиопередачи, обращенные к собеседнику-слушателю, добавленный же позже материал был сугубо литературным, выдержанным в лирически-мемуарном ключе и лишенным мобилизационного пафоса; задача радиопередач была суггестивно-мобилизующей, тогда как добавленные тексты делали ее мемориально-законченной. Переработка книги имела своей целью историзацию блокады, вписывание ее в новую историческую матрицу. И здесь Берггольц бессознательно давала ключ к своему письму. В 1967 году в моде была апелляция к революции вперемешку с антисталинским фрондерством.
Первое представлено здесь Вишневским. Вспоминая об атмосфере тех лет, Берггольц заявляет:
Если говорить о стиле митинговом, призывном, то ленинградец, живший в городе в дни блокады, никогда не забудет страстных выступлений по радио Всеволода Вишневского. Именно радио, стихия которого – звук, голос, тембр, целиком доносило до всех его неповторимую интонацию балтийского матроса времен «Авроры», времен взятия Зимнего, гражданской войны, ту интонацию, ту манеру, которая сама по себе была уже живой связью с революционной историей Питера – Ленинграда. И ведь эта манера – эта балтийская удаль, эта беззаветность «братишки» – уже однажды великолепно оправдала себя в дни Октябрьской революции, в войну гражданскую, и вот она вновь звучит, живая, подлинная, дорогая сердцу! Только балтийский «братишка» теперь очень возмужал, посуровел, и его страстные, порой сбивчивые речи так обнадеживали и так нужны были тогда, именно осенью сорок первого года, в отчаянные дни штурма, и именно городу, который не просто хранит традиции, а живет ими…
Вишневский – фигура знаковая. Он знаменует связь с Октябрем, «отблеск костра» революции.
И есть совсем другая, если не сказать противоположная линия, возникающая в дописанных в 1960-х годах воспоминаниях Берггольц. Вспоминает она еще одно выступление
в передаче «Говорит Ленинград» – в конце сентября 1941 года, в дни жесточайших артиллерийских и воздушных налетов, выступление Анны Андреевны Ахматовой. Мы записывали ее не в студии, а в писательском доме, так называемом «недоскребе», в квартире М. М. Зощенко. Как назло, был сильнейший артобстрел, мы нервничали, запись долго не налаживалась. Я записала под диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое она потом сама выправила, и этот – тоже уже пожелтевший – листок я тоже до сих пор храню бережно, как черновичок выступления Шостаковича. И если до сих пор, через два десятка лет, звучит во мне глуховатый и мудро-спокойный голос Шостаковича и почти клокочущий, то высокий, то страстно-низкий голос Вишневского, то не забыть мне и того, как через несколько часов после записи понесся над вечерним, темно-золотым, на минуту стихшим Ленинградом глубокий, трагический и гордый голос «музы плача».
Берггольц полностью воспроизводит в своей книге речь Ахматовой. Кажется, она хочет говорить одновременно как Ахматова и Вишневский. Драма этой несовместимости пронизывает все ее письмо.
Берггольц была едва ли не единственной, кто параллельно доминировавшей беллетристической линии продолжал ленинградскую тему после войны в лирико-дневниковом ключе: тема памяти останется для нее центральной и найдет свое разрешение в, пожалуй, самой известной ее строке, сочиненной для мемориала на Пискаревском кладбище в 1959 году, но ставшей символом памяти о войне на многие десятилетия, повторяясь на бесчисленных памятниках по всей стране: «Никто не забыт, ничто не забыто».
О том, что остается в памяти вместо опыта травмы, говорят два очерка, которыми Берггольц завершает новое издание книги «Говорит Ленинград». Очерк 1957 года «Вечно юный» посвящен судьбам нескольких участников обороны Ленинграда. Основная мысль его сводится к идее бессмертия, которое заключено в бессмертии вечно молодеющего города. С одной стороны, автору «в глубине сердца чуть-чуть грустно от происходящих изменений», поскольку «у меня, человека, жизнь уже сокращается, а он, город, наоборот, идет к вечной юности, к расцвету». И тут же возникает другая мысль – вполне религиозная по своему смыслу:
все мои радости, все горести, весь труд – и не только мои, а и дяди Леши, и Тодорова, и сотен тысяч других – ведь это же все останется в нем, как остались жизнь и труд предыдущих поколений и отдельных людей. Значит, ничто не исчезнет. Значит, пока стоит Ленинград, вечно будут живы те, кто его любил, кто вложил в него жизнь и веру…
Это, условно говоря, голос Ахматовой («для славы мертвых нет»).
Очерк «Ленинский призыв» (1959) связан с шестидесятническим культом Ленина. В центре – попытка связать сакральное время революции с сакральным временем Отечественной войны. Связующей метафорой становится ленинский призыв, состоявшийся в 1924 году после смерти Ленина. Этот призыв, инициированный Сталиным, немало способствовал сталинизации партии и размыванию ее «ленинского ядра». Берггольц рассказывает историю вступления в партию вполне зрелого инженера в годы войны, которого рекомендовал в партию старый большевик ленинского призыва. И этот новый призыв она называет «ленинским призывом Великой Отечественной войны». Эта связка двух призывов позволяет сделать революционное прошлое снова актуальным. В год пятидесятилетия Октябрьской революции, когда вышло новое издание книги «Говорит Ленинград», оказывается важным не только связать в сакральном времени революцию и войну, но и спроецировать эту сакральность на современность.
Связкой здесь становится перенос празднования ленинских дней со дня смерти вождя на день его рождения (как если бы, в противовес православной традиции, акцент переносился с Пасхи на Рождество). И здесь вступает второе Я Берггольц, условно говоря, голос Вишневского:
Как правильно поступила Партия, когда перенесла ленинские дни на день его рождения. Ведь в самом деле, ежегодно в день смерти Ленина народ отчитывался перед своим бессмертным вождем, и, несмотря ни на какие издержки нашего строительства, с каждым годом все радостнее было отчитываться народу в своих победах. И победы – зримые и еще незримые тогда – все-таки, несмотря ни на что, нарастали, и мы не могли не радоваться им. Так день траура перестал быть днем скорби; но волею истории, волею народа превращался в день торжества. Так пусть же наше торжество будет полным, пусть вечно отмечает Земля один из лучших своих дней – день рождения Владимира Ленина. Вот уже почти столетие прошло со дня его рождения и более тридцати шести лет со дня смерти, но расстояние между живущими людьми и Лениным не нарастает – века не отдалят Ленина от людей, от мира! Наоборот! Ленинский призыв разворачивается во всем мире. Уже не только русский рабочий класс – целые народы всех пяти частей земного шара поднимаются по ленинскому призыву на строительство нового общества – на создание скалы Любовь. И все ближе и ближе Ленин сердцу человеческому – величайший человек, отдавший всю жизнь свою за счастье людей.
Этот квазирелигиозный текст (траур превращается в день торжества и т. п.) вписывает блокадный опыт («ленинский призыв Великой Отечественной войны») в круговорот советской истории. Во всех этих смещениях и пертурбациях перспектива блокады полностью смещается и замещается. Сакрализуясь, она теряет персональное измерение. Мы имеем дело со стратегиями дереализации опыта.
Если есть «полезное прошлое», должна быть и «полезная эстетика», которая это прошлое создает. История как когерентный нарратив всегда связана с гармонизацией и героикой, основанной на совпадении личности и социальной роли. Трагедия, напротив, связана с дисгармонией. История связана с примирением и, соответственно, с запретом на трагедию, которая связана с возмущением и экзальтацией. Поэтому памятников героям куда больше, чем памятников жертвам, а история искусства и литературы дает нам бесконечную галерею героев и куда скупее на трагедийные сюжеты, которых в прошлом было куда больше героических. Объяснение в том, что трагедия – удел побежденных, а историю пишут победители, которым незачем стесняться в самооценках, представляя себя в героическом ореоле. Можно сказать, что героика – эстетический агент истории, а трагедия – настоящего.
Искренность, которую отстаивала Берггольц, пронизана трагизмом. В трагедии «Верность» (1946), посвященной обороне Севастополя, Берггольц сама подчеркивает эту связь:
От сердца к сердцу.
Только этот путь
я выбрала себе. Он прям и страшен.
Стремителен. С него не повернуть.
Он виден всем и славой не украшен.
Я говорю за всех, кто здесь погиб.
В моих строках глухие их шаги,
их вечное и жаркое дыханье.
Я говорю за всех, кто здесь живет,
кто проходил огонь, и смерть, и лед,
я говорю как плоть твоя, народ.
По праву разделенного страданья.
…И вот я становлюся многоликой,
и многодушной, и многоязыкой.
Но мне же суждено – самой собой
остаться в разных обликах и душах
и в чьем-то горе, в радости чужой
свой тайный стон и тайный шепот слушать.
Речь здесь идет о коллективном трагическом опыте, о прошлом. И хотя в творчестве Берггольц очень много героики и официального оптимизма, именно эти трагические ахматовские интонации выделяют ее из среды поэтов-блокадников. Лишь очень немногие художники смогли удерживать их: помимо Ахматовой, пожалуй, лишь Шостакович. Их не следует смешивать с минором, видя в проблесках света непременную дань героике. Финал Ленинградской симфонии написан в до мажор, но это отнюдь не тема грядущей победы, не триумфальный финал: в нем звучит все та же трагедийная тема нашествия, это утверждение трагедии в настоящем. Для трагического мироощущения будущее – это настоящее, ставшее прошлым. Оно не утрачивает своего трагизма. Именно об этом – «Дневные звезды». Книга, написанная в 1959 году и положившая начало одному из самых полнокровных течений в послесталинской литературе – так называемой лирической прозе, была, по сути, итогом размышлений о блокаде – главном событии в творческой биографии Берггольц. И хотя значительная часть текста не могла войти в книгу по цензурным соображениям, сама лиризация травмы стала откровением для советского читателя. Опыт войны и блокады был экзистенциальным опытом, выход к работе с которым был наглухо заперт в сталинской литературе.
Прямой противоположностью лирическому субъективизму является документ. Но когда сам документ оказывается продуктом фиксации субъективного восприятия повседневности (дневник) или работы памяти (воспоминания), он лишь усиливает эту субъективную тенденцию. Его природа оксюморонна. Такова «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина (1977–1981). Подобно лирической прозе, документы композиционно выстроены здесь в соответствии с законами лирического монтажа. Стратегия «Блокадной книги» близка к стратегии лирической прозы и так же, как и она, направлена на разрушение истории как конвенциального нарратива и сохранение памяти как субъективного опыта. Но был здесь и другой актуальный план. Как заметил по поводу другого документального проекта подобного же рода – «Черной книги» – Михаил Рыклин,
лиричность этому повествованию придавало завершающееся сталинское время, когда необходимость вытеснения огромных блоков социальной памяти была чистой и абсолютной. Нацистские преступления были более чем преступлениями нацизма, они были также метафорой тех многочисленных преступлений, о которых нельзя было сказать (не просто потому, что это было запрещено, но и потому, что отсутствовал язык, на котором это можно было бы сделать); будучи к тому времени завершенным явлением, нацизм был для его советских жертв узким окошком в мир истории. Он совершил преступления, которые уже приобрели буквальный называемый смысл[23].
Беллетристика была куда более прочной почвой. Характерно, что против документальной тенденции во второй половине 1970-х годов активно выступала критика. Так, Игорь Золотусский в статье «Лучшая правда – вымысел» доказывал, что «документу не хватает философского дыхания» и что «вымысел выше факта»[24], а Владимир Кардин утверждал, что «документалистика – зло, мешающее художественному творчеству»[25]. Парадоксальным образом, лирическая проза, хотя постоянно апеллировала к памяти, была, в сущности, антимемуарной.
Берггольц прославилась активными и страстными выступлениями в защиту «самовыражения» против охранительной критики. Это и вызвавшая бурную дискуссию вышедшая сразу после смерти Сталина статья «Разговор о лирике» (1953), а затем «В защиту лирики» (1954), и, наконец, выступление на II съезде писателей (1954) против наиболее ортодоксальных советских поэтов Николая Грибачева и Анатолия Софронова за право художника на творческую свободу. Но сама концепция «Дневных звезд», как представляется, была глубоко двойственной в том, что касается идеи самовыражения. Сам образ дневных звезд, отражающихся только в глубоких колодцах памяти, – символ очень личного и одновременно коллективного опыта и коллективной памяти. Личный опыт автора становился коллективным потому, что
советский человек с его титанической биографией не только хочет поделиться своим духовным опытом… не «немой исповедью», не скороговоркой, а через Главную, Большую книгу своего писателя. Больше того – он хочет вместе с писателем создать эту книгу, вместе с писателем он хочет быть героем этой книги, чья душа настежь, до самых глубин, открыта перед народом, то есть он хочет быть героем «исповеди сына века».
В финале «Дневных звезд» Берггольц обращалась к читателю со словами:
Я раскрыла перед вами душу, как створки колодца, со всем его сумраком и светом. Загляните же в него! И если вы увидите хоть часть себя, хоть часть своего пути, – значит, вы увидели дневные звезды, значит, они зажглись во мне, они будут все разгораться в Главной книге, которая всегда впереди, которую мы с вами пишем непрерывно и неустанно…
Самовыражение оборачивалось превращением автора в медиум коллективного опыта, его очень личный опыт провозглашался коллективным. Эта коллективизация личного опыта была, конечно, эстетическим жестом. Катаев в «Алмазном моем венце» прямо признавался, что «терпеть не может мемуаров». Память обретала свою исконную функцию – противостоять истории, и творчество Берггольц конца войны зафиксировало сопротивление опыта практикам историзации и мемориализации. Последние апеллируют к фактам повседневности, деталям быта и в конечном счете к эмоциональному дискомфорту, тогда как опыт связан с «памятью чувства», травмы и боли и питает экзистенциальный дискомфорт.
Этому опыту предстояли суровые испытания послевоенного времени. Возврат прежних идеологических и эстетических конвенций начал ощущаться в литературе с середины 1943 года, после поворота в войне: лирика, трагедия и опыт начинают заменяться эпосом, героикой и историей. Уже в 1946 году понадобится серия знаменитых «ждановских постановлений», которые завершат и узаконят этот переход, занявший три года – 1943–1946. Пока же критика ищет синтез обоих начал. Симптоматична в этом смысле статья Лидии Поляк в сентябрьской – октябрьской книжке «Знамени» за 1943 год «О “лирическом эпосе” Великой Отечественной войны». «Великие исторические эпохи, – писала Поляк, – рождают искусство большого плана, народное искусство, искусство героики… героический эпос». Своеобразие героического эпоса войны в том, что он
насквозь лиричен. Поэтическая терминология должна включить в себя такие, на первый взгляд, парадоксальные определения, как «лирический эпос» и, с другой стороны, «эпическую лирику»… Уже рождение социалистической лирики способствовало стиранию граней между эпосом и лирической поэзией.
«Лиричность эпического повествования, как и, с другой стороны, эпический тон лирики, – утверждала Поляк, – характерная черта нашей поэзии, поэзии отечественной войны», и именно поэтому
«личное» перестало звучать в поэзии как нечто «недостойное», запретное. Советские поэты наших дней освободились от аскетических пут, от железных вериг, которыми они стесняли себя в недавнем прошлом. Великая Отечественная война усилила, заострила, наполнила новым содержанием патриотические чувства советского человека и тем окончательно сняла противоречия между личными, «своими» интересами и интересами нации, народа, родины. В поэзии наших дней призыв к защите родины – это одновременно и призыв к защите личного, индивидуального человеческого счастья. И месть за личное горе сливается с местью за горе народа.
Отсюда следовал определяющий для последующей эпохи «бесконфликтности» вывод: «Конфликт между личным и общественным перестает существовать». Отсюда следовало и требование возврата к соцреалистическому герою:
В поэтическом эпосе наших дней есть некоторая неполноценность… Героический эпос военных лет «безгероен»… Советские поэты до сих пор не создали того героического образца человека-бойца, который вошел бы в галерею неумирающих поэтических памятников эпохи… Лирический образ поэта, его поэтическое «я» вытесняет фигуры отдельных героев… Советские поэты могут и должны создать образ народного героя.
Анализируя поэмы В. Инбер, Н. Тихонова, О. Берггольц, М. Алигер, П. Антокольского, критик сформулировала требования к изображению такого эпического героя: поэты, к творчеству которых обратилась Поляк,
не придают индивидуального своеобразия образу-характеру, а без этого немыслим подлинный реалистический образ… В этом отсутствии четких, пластических, рельефно выделенных фигур со своей неповторимой биографией и характером, неповторимой судьбой, поступками, деяниями заключается слабость, неполноценность современного поэтического эпоса[26].
Сама проблема эпоса, эстетическая программа для его создания, разрабатываемые в этой статье, принадлежат уже послевоенной, позднесталинской культуре.
Здесь сформулированы эстетические установки, по которым после войны будут изготовлены лекала так называемого «панорамно-эпического» романа о войне. А потому советская критика сразу же после победы начала требовать возврата к соцреалистическому эпизирующему письму, почти дословно повторяя сказанное Поляк в 1943 году:
Сейчас, – писал Лев Субоцкий спустя два года после Поляк, – наступило время глубокого и всестороннего осмысления жизненного материала, накопленного писателями за эти годы на фронте и в тылу, отсева случайного и второстепенного, отбора главного и типического. Массового читателя уже не удовлетворяет герой без биографии, без ясного человеческого характера – он хочет многообразия определений, богатства и разнообразия связей человека с действительностью, тесного переплетения исторических событий с судьбами их творцов, широкого художественного полотна, которое вместило бы и образ великого вождя нового мира, полководца наших побед, и образ рядового бойца нашей армии[27].
Это – готовый каркас «панорамно-эпического» романа, ставшего метажанром советской литературы после войны. Образцом такого романа в ленинградской теме станет спустя четверть века многотомная «Блокада» Александра Чаковского. Основная коллизия нового эпоса – вождь (командир) и масса («рядовой боец») – пришла в литературу войны из 1920-х годов, но рождена она была, конечно, не только литературой.
Алексей Сурков говорил о том, что «война учила и научила определенную группу людей от литературы, попавших в армейскую, фронтовую печать, реалистическому отношению к событиям, реалистическому отношению к тому, что происходит каждый день там, где история делает свои основные шаги», что «война научила нас говорить тогда, когда это нужно и когда это вызвано самим характером развивающейся борьбы, прямо и жестко».
До войны, – говорил Сурков, – редко кто из нас мог себе представить, что людям, носящим на пилотке или на фуражке красную звезду, можно сказать, что не все они герои, что есть среди них трусы. Война научила нас тому, что людям, которые очень часто обливались кровью, своими жизнями загораживая дорогу на восток, можно и должно прямо и в лоб говорить о старухах, женщинах, ребятах, которые провожают их молчаливо, провожают их, уходящих на восток, скорбными и негодующими взглядами. Война научила нас реалистическому отношению к тому, что происходит в жизни, и тем открыла нам путь к сердцу читателя[28].
Но война подходила к концу, а с ней усиливалась и блокада реальности, ставшая важнейшей стратегией военной пропаганды, частью которой была военная литература. «Батальоны лжи», которые, по известному выражению Черчилля, охраняют правду во время войны, были едва ли не единственной силой, которая не несла потерь. Но литература, на которую возложены были функции показа и ретрансляции войны на все общество, должна была выполнять совместно с властью функции военной цензуры – отмерять и дозировать «правду о войне».
Миллионы людей сражаются на фронте. Миллионы работают в тылу. Уральский сталевар или звеньевая казахского колхоза могут никогда не видеть немцев, не слышать артиллерийских разрывов, – и все-таки они знают правду о войне… У сыновей и дочерей воюющего народа, на фронте и в тылу, – общий опыт, общие мысли, дела, стремления. Вот почему и правда о войне у нас есть только одна – одинаковая для тех, кто был и кто не был в бою. «Правдой сущей, правдой прямо в сердце бьющей» полны сталинские приказы и сводки Советского Информбюро, вся наша агитация и пропаганда —
так писала Евгения Книпович в статье с характерным названием «“Красивая” неправда о войне», где резко критиковались рассказы К. Паустовского, В. Каверина, Л. Кассиля, Б. Лавренева[29]. Пропаганда прямо называется здесь «правдой»: ее прямая задача – создание невозможного в принципе «общего опыта, общих мыслей… для тех, кто был и кто не был в бою».
В конце войны обнаружились две противоположные тенденции: одна – мобилизационная инерция военной литературы; другая – возврат к прежним героическим конвенциям. Так, все журналы дружно выступили «против попыток некоторых писателей приукрасить, романтизировать тяжелые будни войны». «Октябрь» напечатал выступление Берггольц на февральском (1944) Пленуме ССП, в котором она осуждала ложно-романтический пафос некоторых рассказов Константина Паустовского (в частности, его «Ленинградской симфонии»)[30]. «“Красивая” неправда о войне» стала объектом множества критических статей. Рецензируя книгу В. Беляева «Ленинградские ночи», Александр Прокофьев критиковал ее за «халтуру, тем более недопустимую, что автор связал ее с темами великого и прекрасного города»[31]; Белла Брайнина упрекала Валентина Катаева в идилличности изображения «суровой военной жизни народа»[32]; А. Мацкин требовал покончить с «литературным “кондитерством”» и «мастерами пустяков»[33]; о литературщине, благодушии и «опошлении действительности» писал М. Гельфанд[34]. Это была санкционированная властью «борьба с бесконфликтностью и лакировкой», которая всякий раз имела целью ввести население в состояние аффекта. Все это уходило в прошлое, примером чему – судьба «ленинградской темы».
Она оказалась аккумулятором спора. В апреле 1945 года в Ленинградском отделении ССП прошла дискуссия о «ленинградской теме». В ходе этой дискуссии и выявились разнонаправленные векторы в определении верной взвеси «правды о войне». С изменением ситуации меняются и требования к литературе, а с тем – и порог «правды». С одной стороны, продолжают действовать принципы военной литературы; с другой – основные для нее конвенции террористического натурализма заменяются на «мирные» практики контроля и нормализации. В литературе это означало борьбу с «натурализмом» и переход от изображения страданий и ужасов войны к ее эпизации и героизации. Практики стирания опыта сменяются практиками замены его историей/эпосом.
Симптоматично выступление в дискуссии о ленинградской теме Павла Громова, сокрушавшегося о том, что «авторы стараются поразить внимание читателя описанием картин голода и лишений, выпавших на долю ленинградцев», дают «эффектную картину всяческих натуралистически выписанных деталей ленинградского быта. Подлинное искусство всегда чуждалось натурализма». Поэтому нужно «не гоняться за бытовым правдоподобием», а «давать масштабную, обобщающую картину целого», поскольку, утверждал он, читателя и зрителя «интересуют не частности, какими бы эффектными они ни казались, а патетика высоких чувств ленинградца, страсть советского воина, мужество советского человека». Не поняла этого, по мнению Громова, Вера Инбер, которая в своих «Ленинградских дневниках» живописала ужасы блокадной жизни:
К чему эти клинические описания, – риторически вопрошал Громов. – Кому и что они дают? Дело вовсе не в том, чтобы художнику надо было что-то утаивать, – нет. Пиши о чем угодно, но надо, чтобы было обобщение, осмысление событий, а не простое нагромождение ужасающих деталей… В книге нет воздуха эпохи, неизвестно, где, когда, с какими людьми происходят описываемые события. В дневниках Инбер нет истории. Время приходит сюда мелочами быта, «страшными» деталями, а не историческими особенностями психологии советского человека, воспитанного новым социальным строем.
Отчасти Громов был прав: «патетика высоких чувств» была перемещена в «Пулковский меридиан». Но не это имел в виду критик: его атаки на «натурализм» были направлены против самого опыта блокады. Выступая в те же майские дни 1945 года на X Пленуме ССП, Прокофьев в тех же осуждающих тонах говорил о Берггольц, которая в своем «Ленинградском дневнике» «заставила звучать в стихах исключительно тему страдания, связанного с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». Один и тот же дискурс, система аргументов и риторических фигур всплывают в соцреализме всякий раз, когда начинается переход к «эпосу», всегда связанный с изменением порога «правды сущей».
Почти дословно повторяя рассуждения Лидии Поляк о «лирическом эпосе», Громов советовал литераторам
не бояться поэтического обобщения, поэтической условности… больше думать о поэтическом, внутреннем смысле изображаемых явлений. Целью произведения искусства, посвященного ленинградской теме, – учил критик, – должно быть отображение, художественный показ несгибаемого духа ленинградца, противопоставив его вражеской блокаде силу, упорство, самоотверженность, подлинный патриотизм советского человека.
Так ленинградская тема из темы борьбы человека за жизнь (как она трактовалась в годы войны) на глазах превращалась в «тему исторического своеобразия нового человека, способного вынести любые трудности и лишения во имя воодушевляющей его высокой идеи советского патриотизма»[35].
Когда после войны на первый план вновь выходит производственный роман, тема блокады не просто отходит на задний план под напором литературы о «мирных буднях» и «восстановлении» – она намеренно вымывается из военного нарратива. Показателен в этом смысле коллективный сборник очерков «Ленинградцы» (1947), в котором приняло участие семнадцать ленинградских писателей. В очерках о ленинградцах – партийных работниках, рабочих, инженерах, кораблестроителях, учителях – тема блокады проходит далекой тенью. Если речь (и то лишь в некоторых из них) и идет о войне, то это, как правило, рассказы о «трудовых подвигах». Всякие упоминания о страданиях, голоде, холоде и массовой гибели людей отсутствуют. Книга писалась буквально спустя несколько лет после снятия блокады, когда следы разрушений были еще видны повсюду, а последствия для жителей города, огромная часть населения которого погибла в эти годы, опустошительные. Авторы (а многие из них сами пережили блокаду) писали об этом времени так, как будто речь шла об эпизоде, который можно было едва ли не проигнорировать. Блокада теперь если и упоминалась, то речь шла только об участии жителей в героической обороне города. Тема страданий была табуирована.
Последующий отказ от блокадной темы был связан не только с «ленинградским делом» (репрессии, разгром Музея обороны Ленинграда и т. д.), но и с динамикой репрезентативных стратегий соцреализма после войны, в результате чего военная тема в целом теряет свои суггестивные свойства и приобретает совсем иные функции – монументализации и героизации. Источником этих перемен и была замена Войны на Победу. Последняя, приобретя статус основного легитимирующего события Советской эпохи, привела к тому, что Война стала рассматриваться как процесс и история Победы. Если опыт войны, в котором доминировала далекая от победности тема страданий, обладал низким идеологическим коэффициентом и был опытом травмы, то история Победы была государственным предприятием. Неудивительно, что все связанное с какой-либо партикуляризацией страданий стало в этой проекции неприемлемым – будь то тема Холокоста или Блокады. Сталинизм не признает не только неподконтрольного индивидуального опыта, но и никакого партикуляризма. Лишь в двух случаях он был разрешен, что объяснялось исключительными обстоятельствами войны. И в обоих случаях это закончилось трагически: был уничтожен Еврейский антифашистский комитет и вместе с «Черной книгой» табуирована тема Холокоста; были уничтожены всякие напоминания о блокаде, а сама ленинградская тема закрыта. В обоих случаях субъектами партикулярности оказались не любимые Сталиным евреи и Ленинград. Опыт травмы, то есть собственно опыт войны, утратил язык и более не мог быть репрезентирован. В этом контексте ясно, почему тексты, подобные «Запискам блокадного человека» Лидии Гинзбург, не укладывались о публичный дискурс о Победе и оказались вне публичной сферы.
Блокадная тема прошла последовательную трансформацию. Она родилась на отказе от довоенных героических конвенций, затем погрузилась в своеобразный «лирический натурализм», оксюморонно сочетавший в себе установку на искренность и субъективность с предельно натуралистическим изображением опыта. Когда мобилизационный потенциал литературы более не требовался, блокадная тема покрылась патиной мелодраматической беллетризации в романах Веры Кетлинской «В осаде», Николая Чуковского «Балтийское небо», чтобы полностью смолкнуть на годы. После смерти Сталина началась вторичная лиризация и историзация блокадной темы, вызванная возвратом к опыту и памяти. Процесс этот завершится уже в пост-оттепельную эпоху эпической беллетризацией в «Блокаде» Александра Чаковского, реакцией на которую станет поворот к мемориализации и документализации в «Блокадной книге» Адамовича и Гранина. Наконец, в постсоветскую эпоху в публичное поле входят «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург, а позже «Запретный дневник» Берггольц и множество дневников ленинградцев, где опыту блокады возвращается экзистенциальное измерение, которого в советское время он последовательно был лишен. Этот возврат стал возможен только через разблокирование опыта блокады.


