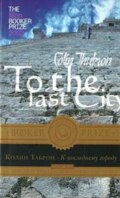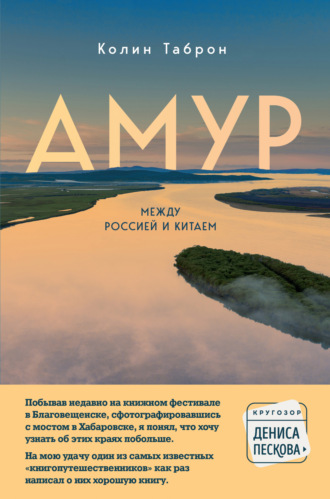
Колин Таброн
Амур. Между Россией и Китаем
Внезапно Батмонх сказал:
– Это же самое было и у моей матери, и у меня. Ее отец злился. «Ты знаешь, что скажут люди, – сказал он ей. – Все скажут. Выйти замуж за мужчину смешанной расы. Африка третьего мира. И ваши дети, – это он обо мне, – тоже скажут. Но если ты хочешь так поступить, что ж, поступай». И она сделала это, хотя им и пришлось расстаться, но мой дед поддерживал ее до конца.
Несколькими скупыми фразами он изложил это охотникам.
Ганпурев нерешительно заметил:
– Думаю, что смешанные браки – это хорошо. Мы в Монголии слишком закрыты.
Внезапно из сгущающейся тьмы донесся волчий вой. Сначала это был всего лишь тонкий звук, похожий на далекий крик. Монго поднялся, приложил ладони ко рту и ответил. Вой приблизился, раздаваясь из зарослей в сотне метров от нас: бестелесный вопль, высокий и свистящий, а затем затихающий безутешным плачем. Когда Монго снова ответил, его крик звучал в точности так же, и теперь уже к нам – или к другим волкам – эхом приходили отклики все еще невидимых животных. Наши лошади забеспокоились. «Ночью они подойдут ближе к палаткам», – сказал Монго. Волки в нерешительности кружили вокруг нас. Что-то было не так. Мы все еще не видели их, но, по словам Монго, они могли уже нас заметить, и сейчас наш костер беспокоил их.
Какое-то время мы продолжали сидеть в темноте, а завывания потихоньку стихли. Мы все устали. Охотники сказали, что за двадцать лет путешествий не встречали местности хуже. Когда луна зашла, а костер прогорел, огонек сигарет с обманчивой мягкостью осветил их лица; затем они отправились в свою палатку.
Батмонх остался, как нередко бывало, пялясь на угли костра рядом со мной. Обычно он любил говорить о том, что прочитал. Давно в прошлом остались такие популярные в СССР книги, как «Белый Клык» и «Последний из могикан»; сейчас он поглощал книги по всемирной истории, астрономии, происхождению человечества, современным войнам, истории гуннов. Однако сегодня он сказал:
– Мне есть о чем грустить.
Он вспоминал своего деда – могучего старика, заменившего ему отца. Он уехал с похорон, чтобы сопровождать меня в поездке.
– Он всегда подбадривал меня. Когда я сопровождал историков и палеонтологов в пустыне Гоби, он сказал, что это здорово, что это мой вклад в мир.
Затем Батмонх промолвил извечное сожаление осиротевших:
– Я никогда не говорил ему, как сильно я его люблю.
– Он должен был это понимать, – ответил я.
– Он знал, что конец близок. Кровь попала в мозг. Он пошел умирать к реке. Его нашли через четыре дня, с практически нетронутой бутылкой водки. Опознали только по часам.
* * *
Рассвет проливает на землю мягкий свет, словно ночь отмыла ее. Все еще слабое солнце поднимает ниже нашего лагеря длинную простыню тумана над долиной, где река извивается среди кустарника, горящего осенними цветами. После бессонной ночи ноет тело. Однако отсутствие людей и мертвая тишина этой земли вызывают прилив удивления – словно мир снова стал молодым. Острые глаза охотников чуть ли не в паре километров от нас замечают нескольких маралов. Батмонх подносит к моим глазам бинокль. Животные вышли из-под защиты деревьев и стоят на открытом лугу. Расстояние и бледный розовый свет делают их похожими на привидения. Кажется, что они пасутся в каком-то другом воздухе, купаются в каком-то другом солнечном свете.
Наступает день. Лошади лоснятся и обгрызают деревья, к которым привязаны. Монго и Ганпурев тихо напевают под нос немелодичные песни, взваливая поклажу на деревянные седла и упираясь ногами в конские бока, чтобы подтянуть подпругу потуже. Мы пускаемся в путь, не зная, чем все закончится. Почти сразу мы снова оказываемся в болоте. За нами следуют тучи мошек и комаров. Мы поднимаемся на возвышенность, однако необъезженная вьючная лошадь дергается в сторону, распространяя свой страх на остальных животных, которые разбегаются по склону холма. Мы теряем еще несколько часов, пытаясь найти сброшенный груз, и останавливаемся на отдых в рощице, где Монго пытается усмирить бунтарку. Когда та встает на дыбы, двое мужчин берут тяжелые прутья и лупят лошадь по шее и плечам. Их крики и удары только ожесточают ее, и она снова вырывается. Этих крепких терпеливых животных, похоже, ломают насилием – непосредственной стычкой двух воль – и теперь я понимаю, откуда следы и шрамы на шее моего Белого. Батмонх протестует, но мужчины отвечают, что всегда так делали. Когда же лошади стареют, говорят они, то «вполне годятся в еду».
* * *
Возможно, это низшая точка нашего путешествия, думал я. Я больше не узнавал себя. Я знал, что ослабел. Иногда кто-то из спутников подсаживал меня в седло, а спешивался я, перекидывая ногу через шею лошади, чтобы поберечь ребра. Тяжелым испытанием оказывались мелкие дела – бритье, чистка зубов. Я перестал искать на себе клещей и хлопать комаров, завывавших в палатке. Аппетит пропал. Как-то вечером Батмонх грустно спросил: «Тебе не нравится моя готовка?» Но меня мучила только жажда. Иногда я ловил на себе взгляды наших сопровождающих, и мне казалось, что я могу прочитать их мысли: сколько он еще протянет? К этому моменту ослабли даже они. Вьючные лошади бунтовали в болотах уже непрерывно. Этим вечером мою палатку поставил не я, а Батмонх, а охотники не разговаривали у костра, а без сил отправились спать, не сняв сапог. Что до меня, то я лежал полностью одетым на тонком дне своей палатки, радуясь усталости, которая одолела всю боль.
Батмонх в одиночку сидел у костра и думал. Похоже, в итоге он оказался самым выносливым из нас. Он соглашался, что возвращаться поздно, даже если нам захочется. Он держался на лошади лучше, чем я, но тем утром лошадь его сбросила; охотники смеялись над ним, но он остался невредим. Он по-мальчишески гордился нашим предприятием. «Это самое трудное путешествие в моей жизни, – сказал он. – Даже через десять лет я буду рассказывать другим людям о нем». И тем не менее мы проехали верхом немногим больше недели, одолев всего триста километров. Нас ослабили торфяные болота – сырой подземный мир, который заставлял нас двигаться в обход, топил и вгонял в панику наших лошадей.
Но однажды наступило утро, когда мы поняли: что-то изменилось. Холмы стали более лысыми и более каменистыми. Белесые болота стали сходить на нет. Внезапно мы пошли рысью по тропинкам из мелкого песчаника, а вокруг нас снова развернулись степные травы. Вскоре холмы превратились в склоны, где одиноко вспыхивали оранжевые и серые обрывы, а в небе кружили канюки с растрепанными крыльями. Степная флора плескалась теперь вокруг нас во всем своем великолепии. Астры, копеечник, горечавки, пурпурный и красный клевер изобиловали осами и мухами, а над ними летали крохотные крапчатые бабочки. Вскоре появились красные адмиралы, репейницы и крапивницы, а также множество других бабочек, которых я не знал; у реки пронзительно орали трясогузки. Потрепанный непогодой информационный щит известил нас, что мы покидаем территорию заповедника. Появились признаки поселений: сломанные загоны, брошенные участки, бродячий скот. Одинокий крестьянин, занимающийся сеном, едва повернулся, чтобы посмотреть на нас. А к концу дня нас встретил джип, который доставил нас на край этой местности – УАЗ с невозмутимым водителем; он прошел кружным путем пятьсот километров.
Глава 2
Степи
Земля выглядит пустой. Реки, спускающиеся сюда с гор, медленно текут средь колеблющихся трав. Человеческая жизнь здесь – группки полукочевых скотоводов, юрты которых – гэр – сливаются с небом. На этих ярких равнинах воспоминания о безлюдных болотах возвращаются только при взгляде на торфянистый поток вод Онона и на профиль гор за спиной, да, возможно, при боли в теле.
Но в глазах местных жителей, чей шаманизм приспособился к буддизму и пережил коммунистические взгляды, вся местность одушевлена. Людям нужно пользоваться ею деликатно, потому что она принадлежит им не в полной мере. Невидимые духи-хозяева властвуют над нею с вершин своих холмов, увенчанных обо или абсолютно голых, но всегда живых по представлениям живущих тут людей. Через них эта земля дышит. Горы таят в себе непредсказуемую мощь, уступающую только всеобъемлющей эгиде Вечного Неба, а водные потоки – это воплощенная жизненная сила земли. Особняком тут стоит исходящий из сердца монгольских земель Онон – «Священная Мать» или «Мать-правительница». Даже души предков остаются в мире смертных, бродя за каким-нибудь холмом или излучиной реки, или задержавшись за невидимой дверью на горном склоне.
Наш УАЗ трясется, направляясь с рассветом на восток по колее из твердой грязи; местность становится все шире и ярче. Монго и Ганпурев попрощались и ушли, подгоняя своих лошадей и радуясь полученной премии. Онон резко свернул на север к российской границе, а мы следуем вдоль его притока Эгийн к деревне Батширээт. Наш шофер Тохтор – горожанин с накаченной грудью и добродушными глазами на неизменно спокойном лице. Он ведет машину по каким-то ориентирам, которых я никак не замечаю.
Даже степные деревеньки, на которые мы наталкиваемся, едва выдают присутствие человека на этой древней земле. У домов с оградами металлические крыши карнавальных цветов – алого, оранжевого, кобальтово-синего – словно в траву выбросили кучу игрушек. Иногда на чьем-нибудь дворе видна грибовидная макушка гэр, словно семья все еще мечтает о прежней свободе и может в один прекрасный день сорваться с места. Чаще на дворах нет ничего, кроме будок-туалетов, какого-нибудь китайского мотороллера или сломанного грузовичка. Хлипкая ограда, окружающая каждый дом и при этом неровно гуляющая вдоль широких грязных улиц, усиливает ощущение, что поселение может легко снести следующая буря.
Батширээт, куда мы попадаем к полудню – первое из таких кажущихся временными мест. Вокруг почти никого. Есть выцветшая реклама G-Mobile и караоке, но большинство магазинов заперты или разрушены. Группа женщин в цветастых юбках и платьях торгуется в магазине на главной улице за какие-то бытовые товары. Их щеки обожжены зимними ветрами, а волосы собраны в прическу «конский хвост». Они весело смеются.
Долины мельчают и открываются на восток в чистую степь. Холмы усохлись до усыпанных камнями складок; по пастбищам бродят гигантские многоцветные стада коров – иногда по две сотни. К северу от нас за равнинами, усыпанными сезонными озерами, бледнеет горизонт. Дороги извиваются и сходятся, и кажется, что Тохтор выбирает путь наугад. Неровная поверхность колеи сотрясает шасси, а я сижу, обложив свои ребра поклажей в качестве подушек и мечтая, что там только синяки, а лодыжка всего лишь вывихнута (однако спустя несколько месяцев рентгеновское исследование покажет два сломанных ребра и перелом малоберцовой кости).
Через эти северо-восточные пустоши мы направляемся к далекой российской границе. Онон светлой дугой течет к северу от нас, и мы пересекаем местность, незнакомую даже Батмонху. Для ночевки мы находим простые лагеря для туристов, но людей там нет. В гостевых гэр стены сделаны из плотно сбитого войлока, толстого и теплого, а на завтрак, если повезет, имеются жареные манты и домашний йогурт. Однажды ночью какие-то обветренные пастухи предоставили нам семейную юрту; ее стены укреплены бревнами – против ветра. Внутри она устроена по-старому. От круглого дымового отверстия расходится ивовый каркас, а стоящая на полу печь устремляет ввысь ржавую трубу. На домашнем алтаре больше нет фотографий партийных лидеров; произошел возврат к старым святыням. К жестянке с надписью «Имперское печенье наилучшего качества» прислонены грубые изображения тибетских буддистских божеств и защитников – милостивой Белой Тары и устрашающего Черного Махакалы[11]. Под ними, рядом с миниатюрным молитвенным барабаном[12], горят семена можжевельника, а позади висят комочки сухого курта[13] в качестве жертвоприношения местному горному духу. Семья угощает нас блюдом из холодных бараньих костей и оставляет спать: я на единственной кровати, а Батмонх и Тохтор устраиваются на одеялах на полу.
Эти передвижные жилища и состоящие из них эфемерные поселения кажутся вполне естественными для бурят (этнической группы монголов), которые живут в этом регионе. Их недавнее прошлое омрачено бегством и преследованиями. В начале прошлого столетия, когда их родину в России охватила революция и Гражданская война, они бежали на юг, в более спокойную Монголию. Однако на эту страну уже начала надвигаться тень России, и вскоре на них опустился сталинский бич; здесь он оказался в руках Хорлогийна Чойбалсана – монгольского деспота, столь же безжалостного, как и его советский наставник. В течение 1930-х годов ночные аресты забирали тысячи бурят – на казнь или в трудовые лагеря. Их обвиняли в панмонгольских заговорах или в шпионаже в пользу новой агрессивной Японии. В эпоху страха судебные разбирательства шли совершенно иначе. Между 1937 и 1938 годами – в пик массовых расправ – репрессировали половину монгольской интеллигенции, а также 17 000 монахов.
И все же буряты продолжают жить широкой полосой к югу от границы с Россией. Их всего 42 тысячи, то есть меньше 2 процентов населения Монголии, однако их таланты обеспечили им непропорциональное влияние и недовольство. Именно они занимают бассейн священной реки Онон от источника в горах Хэнтэй до устья за границей Сибири к востоку от нас.
Те темные годы почти исчезли из памяти живущих, но их тень может пасть даже на тех, кто слишком молод, чтобы помнить: осиротевшая женщина, лишенная собственной истории и живущая в городе, все еще носящем название Чойбалсан, или прихлебывающий чай в холле отеля мужчина, которого я встречаю однажды днем в Улан-Баторе. Он уже в возрасте, но его волосы по-прежнему черны, а морщин на лице почти нет. Он доверяет мне – думаю, потому, что мы познакомились через общего друга – и бегло говорит по-английски: бурятский государственный служащий, работающий в молодой и уязвимой демократии. Он говорит, что сто лет назад его дед и бабушка бежали от большевистской революции из российской Бурятии, которая до сих пор является родиной его народа, и осели в Монголии, где река Онон заходит на территорию Сибири.
Он говорит:
– Я до сих пор возвращаюсь туда, где родился. Не могу объяснить, но иногда я ложусь на землю в этом месте и мну почву в руках. Потом я ощущаю, как земля, ее горы входят в мое тело.
Он разводит руки, пытаясь выразить это, признавая какие-то глубокие унаследованные идеи или заблуждения; мне кажется, что он не уверен. Он говорит о своей «плацентарной родине» – как я понимаю, о древнем обычае закапывать плаценту ребенка в месте его рождения. Я хочу спросить его об этом, но медлю, а он только сообщает: «Это такое побуждение к возвращению», и я слышал, что такое место рождения может навсегда привязать человека и даже тянуть его назад при смерти.
В советские времена этот ритуал возвращения домой спокойно продолжали выполнять: такой спасательный канат был сильнее, чем простая принадлежность к государству. Затем террор 1930-х годов принес ошеломительные беды, когда преступлением была сама принадлежность к бурятскому этносу, и люди сжигали или прятали свои генеалогии, стирая свое прошлое и создавая разрыв, который не зажил даже сейчас.
– Мы утратили свое наследие, – мрачно и монотонно говорит мой собеседник. Для него подлинность собственного народа связана со степями. – Дети наших кочевников ходят в школы, где учатся по русской или китайской программе. Вскоре они уже не помнят, как им нравилось кататься на лошади или доить корову. Да они уже, наверное, даже не знают, что такое корова.
Я гляжу на него, на его строгий костюм и галстук, и удивляюсь тому, сколько горожан считают своей родиной дальние стоянки, где под ними бьется и пульсирует земля. Однако, по его словам, его дед был не пастухом, а талантливым журналистом. Он с самого начала принадлежал не к тому классу.
– Однажды вечером в 1941 году, считая, что находится среди друзей, он сказал, что надеется на победу Гитлера в войне и что красные перестанут угнетать Монголию. Той же ночью его забрал КГБ, и он исчез в ГУЛАГе. В то время с одной стороны приближалась Германия, с другой – Япония. Никто не чувствовал себя в безопасности. Дед вернулся домой только после смерти Сталина в 1953 году. Он умер через три месяца, спокойно, дома, словно именно этого и ждал.
– Твой отец помнит его?
– Отец никогда не говорил об этом. Я вырос в неведении. Потом произошло падение Берлинской стены, горбачевская перестройка, но все это казалось далеким, не как у вас. Но у нас была собственная революция, и в 1991 году архивы открылись. Я смог прочитать допросы деда. И внезапно осознал все происходившее. Нас сильно советизировали, понимаете? Нам хорошо промывали мозги. А когда я прочитал, то не выдержал и заплакал.
В тот момент возрождающегося национального самосознания народный гнев нашел свою цель не в Чойбалсане, которого долгое время превозносили как героя-патриота, а в далеком, почти абстрактном Сталине.
– Да, некоторые из нас ненавидят Сталина. Но мы ничего не имеем против русских. Нам они вполне нравятся. – Он внезапно хмурится. – Я это тоже не совсем понимаю после того, что они сделали. Возможно, из-за того, что они принесли нам культуру, европейскую культуру. Они дали нам медицину и образование. Мы начали сильно снизу, понимаете, начали почти с нуля. Век назад мы были во власти китайцев, и они нас грабили…
Это по-прежнему удивляет меня. Русские разрушили национальную культуру монголов, разорили их монастыри и почти уничтожили их элиту. Однако глубокую ненависть и подозрения вызывают китайцы, господствовавшие в стране три века до 1921 года[14]. Богатый набор их орудий пыток выставлен в государственном музее рядом с конторскими книгами их жадных торговцев. В памяти людей осталось их беспощадное ростовщичество. Говорят, что в долгу находилась половина страны. Даже сейчас существуют монголы, которые верят, что их преследуют давно умершие китайцы, не давая им приближаться к зарытым сокровищам. От этого не сумели избавить ни ламы, ни шаманы.
Возможно, советская пропаганда продлила эту антипатию, но именно лавина китайской иммиграции в начале прошлого века бросила страну в пучину насилия и толкнула ее в объятия России.
– Китайцы бы убили нас всех, – говорит мужчина.
В качестве иллюстрации он двигает по столу китайскую чашку и русскую бутылку, располагая их по разные стороны листа мятой бумаги, которые он назвал Монголией.
– Китайцы только брали, а русские отдавали. Когда мы что-нибудь покупаем, всегда приобретаем русское, хотя оно вдесятеро дороже, и его мало. – Он с сожалением придвигает к бумажной Монголии чашку и отодвигает бутылку с водкой. – Мы ненавидим китайцев, но вынуждены вести с ними дела. Они повсюду. Боюсь, в конце концов они захватят нас. – Его голос падает до шепота. – Говорят, что они даже пасут наши стада.
Его руки продвигают чашку, и я слышу, как бумага под ней сминается.
Мы едем на юг от Батширээта. Степи взмывают к горизонту волнами трав и камней; в небе видны пятнышки нескольких воздушных змеев. То здесь, то там двигается стадо или поднимает белый купол над травой какая-нибудь юрта. Где-то здесь в 1206 году курултай – собрание монгольской знати – провозгласил Чингисхана великим ханом над всеми племенами. Мы приближаемся к этому месту по побелевшим камням и подходим к шестиугольной ограде, окружающей кучу серых камней и помост, украшенный вотивными[15] полосами ткани. Объявления, что на этом месте состоялось то судьбоносное собрание, нет; однако люди оставляют подношения – сласти, светильники, измельченный чай; откуда-то из пустоты выныривает велосипедист, объезжает трижды курган, бросает камешек и исчезает в синеве.
В советское время почитание Чингисхана, как и прочие признаки монгольского национализма, придушили, но с обретением независимости возникла большая тяга к любым его следам. Появилась масса посвященных ему колонн и обо, а ландшафт к востоку от Улан-Батора разрушен монструозной стальной статуей – самой крупной конной статуей в мире. Однако почти все такие места – фальшивки или не имеют должного подтверждения. Местонахождение первого курултая неизвестно, и предостаточно мест, конкурирующих за звание места рождения и захоронения Чингиса. В деревушке Биндэр, которая паутиной оград и яркими крышами напоминает Батширээт, бывший премьер страны устроил альтернативное место курултая: неприглядный столб с врезанными изображениями хана; рядом в нетронутом виде лежат маленькие кучки денег от приверженцев. По словам Батмонха, причина в том, что в этой деревне экс-премьер родился.
К вечеру мы подъезжаем к месту, где степь превращается в лесистую долину. Крутой склон, усеянный валунами и лиственницами, обрывается на вершине голыми лезвиями оранжевой скалы. Они выпирают из подлеска и превращают линию горизонта в ряд сломанных зубов. У подножия холма проходит длинная стена сухой кладки; необработанные камни не дают намеков на время постройки. На голой местности, где практически нет массивных построек, такая защитная конструкция выглядит интригующе. Стена в некоторых местах разрушена, она уходит в обе стороны по склону холма, пробегая примерно три километра – словно когда-то на холме стоял целый укрепленный город, а потом, стертый непогодой, ушел в землю и скалы.
В 2002 году это загадочное место, получившее название Стена Подаяния, превратилось в арену страстных археологических раскопок. Их финансировал брокер из Чикаго (и археолог-любитель) Мори Кравиц, убежденный, что именно тут расположена могила Чингисхана, набитая сокровищами его походов. Раскопки шли в атмосфере бурного оптимизма. Батмонх, работавший тут в молодости, до сих пор помнит, в каком активном темпе они проходили. Обломки гладких валунов, оставшихся на холме после ледника, создают иллюзию человеческой деятельности. Выявлено более сорока предполагаемых могил. Обнаруженный труп в ламеллярном доспехе[16] назвали монгольским воином и вернули в могилу без проверки ДНК. По иронии судьбы, именно шумиха вокруг проекта привела к его закрытию. Чингисхан был к этому моменту практически национальным божеством, и перспектива осквернения его могилы – да еще и иностранцем – вызвала вмешательство властей. Работы принудительно прекратили.
И все же мы проходим через проломленную стену с какой-то надеждой. Ее внешняя сторона скошена, опирается на щебень, заросший травой, и часто целиком уходит под землю. Батмонх забирается выше – туда, где, по его воспоминаниям, находились могилы. Я иду ниже, пробираясь сквозь цветы и клонимый ветром чертополох к скалам, которые при приближении теряют рукотворную форму. Говорят, что эти камни кишат гадюками, но я вижу только сурков, бегущих к невидимым норам, и стервятника, парящего над головой. Отдыхаю в выложенной камнем яме, которая, на мой взгляд, могла быть могилой, и слышу навевающих сон кузнечиков. Здесь нет никакого сходства с местом имперского захоронения, описанным в путаной письменной истории: по преданию, над могилой Чингисхана прогнали табун лошадей, чтобы ничего не было заметно. Немногочисленные артефакты, найденные у Стены Подаяния – битая керамика, кусочки угля – рассказывают совершенно другую историю. Упорные археологи жаждали вернуться, однако, похоже, это колоссальное замкнутое пространство вообще не имеет ничего общего с Чингисханом. Это некрополь некогда грозных киданей, которые много лет правили северным Китаем и Монголией, но их государство пало почти за сорок лет до рождения монгольского императора.
В литературном памятнике, описывающем жизнь Чингисхана – «Сокровенном сказании монголов»[17] – о его могиле ничего не говорится. Такой пробел в замечательном документе заставляет предположить, что раскрывать ее местоположение было запрещено; но именно «Сокровенное сказание» помещает юность Тэмуджина и первые конфликты в его жизни в долину Онона. Монгольский оригинал этого анонимного эпоса, написанного через несколько лет после смерти Чингисхана, утерян; в девятнадцатом веке в пекинской библиотеке нашли текст, транскрибированный китайскими иероглифами. Этот труд пропитан устной традицией, где история сливается с легендами, а яркая деталь – с архаичным эпитетом. Похоже, что он был написан в качестве поучительной истории для монгольской правящей семьи, и описывает восхождение их великого предка – от юношеских страхов и преступлений (он убил собственного сводного брата) до реализации своего божественного призвания после зова Вечного Неба. Помимо привычной для Запада шокирующей жестокости, вырисовывается сложный характер – и политический, и визионерский. Именно на берегах Онона монголы наконец объединились под его властью, и именно в долинах этой реки совместные охоты и первые сражения положили начало империи, созданной верхом. Два десятилетия его более поздних кампаний «Сокровенное сказание» сводит всего к нескольким фразам, однако к моменту смерти Чингиса в 1227 году его государство простиралось от Тихого океана до Каспийского моря, а потомки хана еще увеличили его, завоевав Китай на востоке и дойдя до Вены на западе – создав самое крупное государство с неразрывной территорией в истории. К 1290 году Азия от востока до запада стала одной обширной конфедерацией, и Pax Mongolica[18] просуществовал целый век, когда процветала торговля и царил вымученный мир. Говорили, что девственница с золотым блюдом могла безопасно пройти от Китая до Турции[19].
Возможно, Чингисхан, не оставивший в бассейне Онона материальных следов, пронизывает эту территорию больше в воображении. Когда мы вечером возвращаемся, река кажется нам уже не просто какой-то случайностью ландшафта, а его бурлящим сердцем. Сейчас Онон сильнее, глубже, подпитывается горными притоками. Тускло мерцающие стальные гребни и впадины на поверхности воды мягко добираются до берегов и разъедают их. И тем не менее он все еще невелик – двигающаяся в темноте ленточка – и ни одна теория не может полностью развенчать представление, что именно он породил эти катастрофические перемены в Азии, и что современная Монголия с населением в три миллиона человек некогда изливала потоки такой концентрированной мощи.
Сейчас русская граница лежит всего в 80 километрах, однако на момент смерти Чингиса она проходила в пяти тысячах километров к западу, где тогдашнюю Россию представляла мозаика строптивых княжеств. Между 1237 и 1239 годами Золотая Орда – северо-западное монгольское государство – обрушилась на эти уязвимые земли, сокрушила Киев (самое мощное и развитое из местных государств) и наложила на уцелевшие славянские народы устрашающую дань. Порабощение России монголами значительно перестроило ее судьбу, помешав будущему сближению с Западной Европой. Так называемое «татаро-монгольское иго», по предположениям некоторых историков, породило стоический фатализм России, заморозив ее в крепостничестве и самовластии. Таким образом, в вопиющей изворотливости ума Иван Грозный, Сталин и Путин становятся отпрысками Чингисхана, а извечный раскол этой страны между западной цивилизацией и «азиатской» судьбой зародился у залитой лунным светом реки, бегущей под нами.
На следующее утро на небе ни облачка. На юге, у бледного горизонта мы видим летящих журавлей. Невозможно сказать, к какому виду они принадлежат – величавые даурские журавли или журавли-красавки, и их печальные голоса практически не слышны вдали, однако мы видим четкую траекторию их полета, вытянутые шеи и потрепанные кончики крыльев – когда они направляются в Гималаи и дальше в Индию. Красота, танцы и даже известная по слухам моногамия привели к попаданию этих птиц в мифы по всей Азии (китайцы полагали, что они несут мертвых к бессмертию), и я смотрю, как они исчезают, со смутным сожалением – словно они никогда не вернутся.
Тохтор высмотрел четверку лебедей, плывущих по степи. Они опустились на сезонное болото и плавают посреди мокрой травы. За ними на небольшом возвышении появляются три оленных камня. Такие монолиты разбросаны по всей степи. Неясно, отмечены ли так места каких-то церемоний или захоронений, но эти камни похожи на фигуры людей, на которых вырезаны мчащиеся олени; назначение камней остается неизвестным. Те, что нашли мы, настолько истерлись, что остались только призрачные намеки на линии. Два камня выше меня, это цельные гранитные плиты: фигуры воинов, возможно, трехтысячелетней давности, которые все еще прямо стоят на пустой равнине.
Через час мы оказываемся в месте, где земля обрывается, а из-под травы прорывается гранитный склон. Возможно, наличие воды, которая иногда просачивается между его камней, привело к появлению здесь поселения охотников мезолита, оставивших свои следы примерно 15 тысяч лет назад. Отщепы их каменных орудий все еще разбросаны по склону. Несколько месяцев назад я видел фотографии одной из местных скал, покрытой петроглифами – козел с изящно загнутыми назад рогами, приземистые лошади, похожие на диких животных монгольской породы, северный олень с замечательными рогами и пара крадущихся крупных кошек (как мне показалось). В этом созвездии детально вырезанных зверей стоял человек с луком и стрелами, а над ним была выгравирована свастика – символ благополучия в древней Евразии.
Я карабкаюсь по камням вместе с Батмонхом в надежде найти их, но каменные стены пусты, а щели между ними голы. Батмонх так же озадачен, как и я. Ему не терпится заполнить пробелы в его образовании советского типа. Мы сидим в траве и думаем: может быть, камень способен ожить в результате какого-нибудь трюка типа косых солнечных лучей? Гигантский валун у моих ног покрыт символами, которые я не могу прочесть. Они грубо и глубоко врезаны в камень, испещренный серым лишайником. Насколько я знаю, считается, что в этом месте сохранилось около двадцати надписей – от тибетских, персидских, древнетюркских и монгольских до текста предков династии Ляо[20]. Однако вижу лишь джунгли плотно сгруппированных знаков – возможно, племенных знаков – словно утерянный алфавит. Батмонху кажется, что он опознал изображения, похожие на клейма, используемые для кочевых лошадей, а я воображаю, что обнаружил задушенный лишайником шрам моего Белого: круг, разделенный пополам.
С неотпускающим беспокойством мы возвращаемся к своему УАЗу. Тохтор спит на водительском сиденье; его живот комфортно колышется между рубашкой и брюками. Ему нравятся эти поездки на свежем воздухе за городом, но он не видит смысла в старых камнях. Как в какой-то момент и я. Еще шестьдесят лет назад монгольские археологи идентифицировали на этих откосах почти триста вырезанных фигур. Я воображал, что среди петроглифов, типичных для второго тысячелетия бронзового века, найду животных изменившегося ландшафта (этот выход пород когда-то находился посреди озера), и я, возможно, обнаружу профиль лося, ненасытный аппетит которого давно проявился бы в лесной растительности. Может быть, я бы даже заметил далекого мамонта (западнее, на Алтае, они дожили примерно до 1000 года до нашей эры) или реликтового носорога. Вместо этого огромная скала исчезает из виду, а я угрюмо сижу на заднем сиденье внедорожника, зная, что в скале где-то живет множество животных, но моим глазам не хватает остроты зрения, чтобы воскресить их.