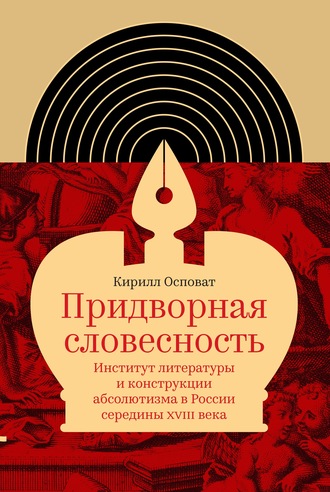
Кирилл Осповат
Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века
Введение
Предлагаемая книга представляет собой очерк русской литературы середины XVIII в., когда стараниями Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова в России складывался «институт литературы» (П. Бюргер).
Двадцать лет царствования Елизаветы Петровны (1741–1761) стали эпохой первого расцвета светской русской словесности при последовательном покровительстве двора. Якоб Штелин писал в позднейшем мемуарном наброске: «В благополучное царствование Ея И. величества Елисаветы Петровны так возвышалась поэзия и прочия изящныя искусства и науки, что оне приняли совсем другой вид» (Куник 1865, 388). Статья С. Г. Домашнева «О стихотворстве» (1762), вышедшая через несколько месяцев после смерти императрицы, содержала сходные оценки:
В щастливое для наук владение бессмертной славы достойныя императрицы Елисаветы Первой стихотворство пришло в цветущее состояние в России. То, что видели Афины в самое благополучное время своей вольности; что видел Рим при Августе; что видела Италия при Льве Х; что видела Франция при Людовике XIV, увидела Россия во времена великия Елисаветы (Ефремов 1867, 191).
Формулировки Штелина и Домашнева указывали не только на жанровое и стилистическое обновление литературного репертуара, но и на стремительно усиливавшееся придворное покровительство словесности: если в 1740 г. кабинет-министр А. П. Волынский избивал Тредиаковского во дворце, то в 1765 г. бывший канцлер гр. М. Л. Воронцов, один из первых вельмож империи, воздвиг в Александро-Невской лавре каменное надгробие «Михаилу Ломоносову <…> бывшему статскому советнику <…> разумом и науками превосходному, знатным украшением отечеству служившему, красноречия, стихотворства и истории российской учителю» (Новиков 1951, 321).
Литература как институт возникала, таким образом, в тесной связи с практиками придворного патронажа и идеей отечества, понимавшейся в сравнительных политических категориях: если верить Домашневу, после Афинской республики поэзия сопровождала главным образом расцвет влиятельнейших европейских монархий, от Рима эпохи Августа до Франции Людовика XIV. Этой политической локализации поэтического искусства соответствует у Домашнева и осмысление его целей:
От богов стихотворство дошло до полубогов, до героев, до основателей городов, до защитников отечества и простерлось на конец до всех, кои почитались творцами общаго благополучия. Язычество, обожая все, что могло только иметь свойство власти, довольно могущей принесть пользу, которая бы несколько превосходила обыкновенную человеческую силу и имела в себе нечто чрезвычайное, почло за справедливое дать в похвале богов участие тем, которые разделяли с ними славу оказывать человеческому роду самое величайшее благо, кое он знал, и самое совершеннейшее благополучие, которое он чувствовал. <…> Главнейшее старание стихотворства было всегда исправление нравов (Ефремов 1867, 174–175).
Природную роль поэзии Домашнев видит в обожествлении и прославлении пользы, которую приносят человечеству носители необыкновенной власти: «основатели городов», «защитники отечества» и прочие «творцы общаго благополучия». Из начал политического порядка, переплетенных с «похвалой богов», проистекает и авторитет истинной поэзии, и приносимая ею польза, состоящая в «исправлении нравов»: с древнейших времен все поэтические формы «стремились к одному концу: сделать людей лучшими» (Там же, 175).
Этой преамбулой предваряются у Домашнева характеристики важнейших национальных литератур и их главных авторов, среди которых занимают свое место и поэты елизаветинского царствования:
Г. Ломоносов был первой, которой на стройной и великолепной лире возгремел дела Великаго Петра и его безпримерной дщери. <…> Г. Сумороков, великой стихотворец, славный Трагик <…> Г. Третиаковский первой изъяснил правила о стихотворстве <…> Князь Антиох Кантемир <…> известен своими сатирами, которыя переведены на многие чужестранныя языки (Там же, 191–192).
Как же связаны сочинения этих литераторов с авторитетными теоретическими представлениями о поэзии, заимствованными Домашневым, – как показал Х. Шлитер (Schlieter 1966), – у Вольтера и переведенного Тредиаковским Ш. Роллена? Об этом пойдет речь в нижеследующих главах, посвященных рассмотрению конкретных сочинений середины XVIII в. и стоящих за ними жанровых форм – коммуникативных моделей, определявших место литературного акта в символической модели социума. В двух главах первой части рассмотрена семантика нормативных поэтик (в первую очередь «Сочинений и переводов» Тредиаковского и «Двух эпистол» Сумарокова), очерчивавших претензии литературы на общественное признание в категориях придворного вкуса и абсолютистской государственности. В трех главах второй части на материале торжественной оды и поэтических переложений Библии исследуется смежность лирического модуса с конструкциями монархической власти и политической субъектности подданного. В единственной главе третьей части поэтические и металитературные сочинения конца 1750‐х – начала 1760‐х гг. истолкованы на фоне символических и социальных стратегий придворного патронажа и общеевропейских теоретических представлений о месте литературы при дворе и в государстве.
* * *
Связи литературы XVIII в. и государственности хорошо изучены в исследованиях последних лет: достаточно вспомнить исследования А. Л. Зорина (2001; 2016) и В. Ю. Проскуриной (2006; 2017), восстанавливающие придворные и политические контексты екатерининской словесности. Исторические работы такого рода подводят к теоретическому вопросу о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества. Перспективные подходы к этому вопросу, глубоко укорененному (как свидетельствуют формулировки Домашнева) в общеевропейской практике и рефлексии начала Нового времени, были намечены уже в старом литературоведении. Так, Л. В. Пумпянский, один из проницательнейших исследователей русской литературы XVIII в., писал в 1935 г.:
Классицизм – литературный стиль эпохи абсолютизма. <…> Относительное единообразие общественного строя европейских стран в эпоху абсолютизма привело к созданию своего рода единой европейской литературы на нескольких языках. <…> Сент-Аман и Херасков, Буало и Кантемир, Малерб и Ломоносов стремятся к той же художественной цели. Однако это тождество цели остается гипотетической величиной, – в меру структурных особенностей каждой страны, – и становится, в последнем счете, лишь директивой единообразия, директивой, всегда наличной в художественном сознании поэтов и никогда не осуществленной (и неосуществимой). <…> Кантемир «последует» Буало, Ломоносов Малербу, Третьяковский <sic> Буало (как автору Намюрской оды) Ротру Корнелю, Сумароков Расину, и все вместе античности (или, вернее, тому, чем им античность представляется). Конечно, и это литературное мировоззрение никогда не было осуществлено бесспорным образом; всегда были (даже во Франции XVII в.) противоположные тенденции <…> «Химически чистый» классицизм такая же нереальность, как «химически чистая» общественная формация (Пумпянский 1935, 130–131).
Хоть и оперируя объективистскими понятиями «абсолютизма» и «классицизма», Пумпянский проницательно опознает в них условности, теоретические конструкции, общие европейскому политическому и литературному мышлению, но по-разному соотносившиеся со «структурными особенностями каждой страны». Узловым моментом понятого таким образом общеевропейского «классицизма» оказывается взаимная соотнесенность антикизирующе-нормативных литературных доктрин с определенной, «абсолютистской» политической программой.
Это космополитическое соотнесение манифестировалось в литературном тексте, значимость которого на русской почве установил тот же Пумпянский. Речь идет о новолатинском романе Дж. Барклая «Аргенида» (1621), дважды переведенном на русский Тредиаковским – в 1720‐х гг. и вновь почти тридцать лет спустя (см.: Пумпянский 1941а, 241–242; Николаев 1987; Carrier 1991). Первый перевод остался в рукописи, а второй вышел в свет в 1751 г. Пумпянский пишет:
Современному читателю (и даже историку литературы) «Аргенида» и автор ее Барклай не говорят ничего. Но были времена, когда Барклай был едва ли не самым популярным в Европе автором, а «Аргенида» считалась заодно и занимательнейшим из романов, и глубоким политическим произведением, и образцом неолатинского языка. <…> работы [Барклая] представляют как бы теоретическое введение к деятельности Ришелье, а напечатанная в год смерти автора «Аргенида» стала настольной книгой знаменитого кардинала. Европейский успех «Аргениды» был беспримерным. <…> Еще важнее числа переводов имена переводчиков. Поэт Малерб, которому предложено было перевести «Аргениду», не сделал этого лишь по случайным причинам. Первый немецкий перевод сделан (1626) Мартином Опицем. <…> Когда же Феофан Прокопович (с 1704 г. преподаватель пиитики в Киеве) реформировал преподавание словесных наук и обновил арсенал рекомендуемых образцовых текстов, «Аргенида» начинает регулярно встречаться в рукописных курсах пиитики в качестве образца в своем жанре. <…> В библиотеке кн. Д. М. Голицына (известного участника «Затейки» верховников в 1730 г.) была рукопись «На Аргений Иоанна Барклая», т. е., очевидно, перевод одного из многочисленных «ключей» к «Аргениде». <…> вероятно, не раз в кругах заинтересованных людей «Аргенида» обсуждалась в связи с событиями 1730 г.; Феофан, Татищев и Кантемир, действуя за восстановление самодержавия против вельмож-олигархов, действовали в духе учения «Аргениды» и несомненно вспоминали ее, потому что в первой части романа рассказана попытка влиятельного аристократа Ликогена восстать на монарха Мелеандра и в связи с этим обсуждается вопрос о преимуществах единодержавия перед буйной аристократической республикой. <…> одна общая «аллегория» проходит через всю книгу: нет зла страшнее мятежных аристократических «факций» и религиозных сект, образующих государство в государстве; абсолютный монарх – символ государственного единства (Пумпянский 1941а, 241–244).
«Аргенида» – приключенческий роман из воображаемой древности, основанный на событиях Религиозных войн во Франции конца XVI в., – описывает хорошо разработанную модель политического кризиса и абсолютистской реставрации. В политическом мире «Аргениды» находится место и изящной словесности. Устами Никопомпа, образцового придворного писателя и alter ego автора, Барклай объясняет замысел своего романа и стоящие за ним представления о литературе и ее общественной роли. Обсуждая с единомышленниками тяготы гражданских смут, Никопомп говорит:
Не знаю, каким превеликим восторгом боги сердце мое наполняют, а именно чтоб мне возгнушаться беспокойными людьми, чтоб воружиться на злодеев и чтоб отмщение над ними самими получить заблаговременно <…> я не внезапным и суровым укорением, как приговоренных, повлеку на суд тех, кои общество в смятение приводят <…> Но незнающих обведу их по сладчайшим округам так, что самим тем будет приятно быть осуждаемым под чужими именами <…> превеликую баснь, наподобие истории, красным слогом сочиню. В ней удивительные приключения сплету: оружие, супружества, войну, радость ненадеемными смешаю успехами. <…> Потом злоключений видом воздвигну жалость, страх, ужас <…> Коих угодно будет, от смерти свобожду и предам смерти. Знаю, каковы наши: они будут думать, что я играю, тем всех их к себе преклоню. Возлюбят они сие как театральное или какое другое зрелище. Таким образом вливши исподволь любовь к напитку, придам лекарственные злаки. Пороки представлю и добродетели; также и воздаяния обоим пристойныя будут. Когда станут читать, когда как на иных будут они гневаться или другим благоприятствовать, тогда встретятся сами с собою и увидят в зеркале лице и достоинство своея славы. Может быть, постыдятся представлять больше в действии такие лица на театре сея жизни, о которых узнают, что те по правде с ними сходствуют в басни (Аргенида 1751, I, 411, 416–417).
Описывая воздействие своей «басни», Никопомп оперирует сразу несколькими важнейшими понятиями и метафорами, обозначавшими в словесности начала Нового времени воспитательные эффекты поэтического вымысла. Он сравнивает текст с лекарством и с зеркалом. Следуя «Поэтике» Аристотеля, он стремится пробудить в читателе «жалость, страх, ужас». Кроме того, он смешивает нравоучение с удовольствием и опирается при этом на наставления «Науки поэзии» Горация. Тредиаковский, выпустивший свой перевод Горация в 1752 г., цитирует его в предисловии к «Аргениде»:
Подлинно, «все вообще пииты ни о чем больше в сочинениях своих не долженствуют стараться, как чтоб или принесть ими пользу, или усладить читателя, или твердое подать наставление к чесному и добродетельному обхождению в жизни». Но мой Автор [Барклай] все сии соединил в себе преимущества <…> так что можно сказать смело, что «он совокупил полезное с приятным некоторым похвальным и благородным, если притом и непревосходным образом» (Там же, I, XIII).
Нравоучительная сила поэзии, засвидетельствованная важнейшими авторитетами, встраивается у Барклая в механику абсолютистской государственности. Абстрактные пороки становятся атрибутом «тех, кои общество в смятение приводят», а под добродетелями, которые предстоит усвоить мятежникам, понимается этос верноподданического послушания. Косвенное перевоспитание читателя средствами вымысла оказывается средством политического дисциплинирования, взращивающего личность подданного в соответствии с требованиями политического порядка. Задача Никопомпа одному из его собеседников представляется так:
Положим же, толь вы действительнаго благоразумия доказательства напишете, что они могут читающих неистовство укротить; равно как некоторые болезни, кои мусикиею исцеляются <…> (Аргенида 1751, I, 414).
Европейские дворы XVII–XVIII вв. хорошо усвоили роман Барклая и сформулированную в нем политическую теорию словесности. О ее бытовании в России сохранилось свидетельство, замечательно иллюстрирующее космополитический характер интересующих нас представлений. За двадцать лет до появления печатной русской «Аргениды» и вскоре после политических бурь 1730 г. И. Д. Шумахер по-французски поздравлял молодого Тредиаковского с успехом другого его перевода, знаменитой «Езды в остров любви»:
Хорошо известно, что, как скоро поэзия и музыка начнут смягчать нравы народа, [сколь варварским бы он ни был,] то владетели после того сумеют извлечь отсюда пользу (Пекарский 1870–1873, II, 26; перевод дополнен – К. О.).
Как общепризнанную истину Шумахер повторяет идею Барклая об искусствах, а именно музыке и поэзии, укрощающих политическое «неистовство» в интересах монархии. Шумахер, некогда библиотекарь Петра I, был одним из основателей и влиятельнейшим администратором в учрежденной Петром Академии наук. Он происходил из Эльзаса и в Страсбургском университете, по сообщению П. П. Пекарского, преимущественно занимался «словесностью (die schönen Wissenschaften), потому что чувствовал в себе особенное призвание к поэзии», и вместе со званием магистра получил «laurea poëtica» (Пекарский 1870–1873, I, 16). С таким образованием Шумахер сам принадлежал к типу придворных, или политичных, ученых, прославленных Барклаем под именем Никопомпа.
«Аргенида», которую Пумпянский именует «полным сводом абсолютистской морали» (Пумпянский 1983, 6) и к которой мы еще не раз вернемся на страницах этой книги, объявляла «художества» и «науки» важнейшим атрибутом успешной монархии:
Извольтеж в вашем уме представить, что славнейшии художествами, науками <…> как на одно небо звезды к некоторому Государю собрались: то какие о дворце оном во всем свете будут речи? Кто онаго знать не имеет? или, понеже в нем есть уже свой бог, с трепетом, как божественный храм, не почтит? (Аргенида 1751, I, 115).
Суммированные здесь общеевропейские механизмы меценатства и престижа, согласно энергическому очерку Г. А. Гуковского, определяли бытование словесности и в России середины XVIII в.:
До середины XVII[I] столетия, в течение четверти века, вся официальная культура, возглавлявшая умственное движение высших классов, имела правительственно-придворный характер. Она была создана не только по приказу центральной власти, но и существовала на потребу ближайших практических целей той же власти. <…> Литература и искусство входили в ритуал эстетической пропаганды монархии, ее ближайших целей и намерений, обосновывая в то же время ее права на власть. <…> Вся новая дворянская культура мыслилась как один из видов «службы», предписанной всей стране петровской реформой. <…>
Фактически судьбами и направлением науки, искусства, литературы в 30‐е и 40‐е годы заправляли немногочисленные, как бы специально выделенные для этого вельможи, придворные правительственные дельцы. Их трудно назвать меценатами, поскольку они были лишь орудиями «меценатской» деятельности центральной власти, чиновниками по делам культуры. Но они составляли ядро читательской группы по отношению к литературе; это были «ценители», определявшие своим одобрением или неодобрением направление литературы. Они «поощряли» писателей и ученых, они покровительствовали им в жизни и в карьере, предпринимали издания их сочинений и присылали им на дом корзины с яствами, беседовали с поэтами о стихосложении, требовали от них од и речей, разбирали их ссоры и тяжбы между собой, устраивали для них «высочайшие милости», журили их, если находили это нужным <…> Типичны в ряду других и наиболее значительны по своему влиянию были: князь Никита Юрьевич Трубецкой и Иван Иванович Шувалов. <…>
Круг распространения дворянской литературы 30‐х – 40‐х и даже 50‐х годов был очень незначителен. Кроме вельможной группы, командовавшей литературой, ею интересовалась придворная молодежь, «высший свет» <…> «Публики» как некоего неопределенного, неограниченного психологического фона применения идеологического воздействия литературы в сущности не существовало; потребители литературы были наперечет известны в лицо и по именам, и произведение распространялось в списках с неменьшей легкостью, чем в печатных оттисках. <…> Стимулируя создание придворно-правительственной культуры, вельможи, люди «высшего света», не работали сами ни в искусстве, ни в науке, по крайней мере не работали профессионально. Они, т. е. власть, заказывали культуру специалистам-мастерам этого дела, которых они готовы были обучать за счет казны, так же, как заказывали мастеру мебель и ковры для зал императорского дворца. Они нанимали для писания стихов и прозы, для работ в лабораториях, для университетских лекций мастеров слова и мысли, не принадлежавших к высшему придворному кругу, но готовых служить ему, намерениям и интересам его и всех, его поддерживающих. В науке работали по большей части наемные иностранцы; в литературе – наемные писатели, большей частью «природные» россияне. <…>
Сферой приложения силы искусства и мысли был в первую очередь дворец, игравший роль и политического, и культурного центра, и вельможно-дворянского клуба, и храма монархии, и театра, на котором разыгрывалось великолепное зрелище, смысл которого заключался в показе мощи, величия, неземного характера земной власти. При дворце в порядке вспомогательных учреждений или филиалов существовали и Академия наук и вельможные салоны. В сложном ритуале дворцовой жизни, в котором всякому участнику, начиная с монарха и кончая пажом, была предписана определенная роль, искусство занимало большое место. Торжественная ода, похвальная речь («слово») и были наиболее заметными видами официального литературного творчества; они жили не столько в книге, сколько в церемониале официального торжества. За ними шли салонные песни и необходимый во всяком придворном быту театр – училище манер и слога, пропагандист придворной эстетики и идеологии (Гуковский 1936, 9–13).
В управлявшейся Шумахером Академии наук место словесных наук было сперва весьма скромным, но оно разрасталось по мере формирования после бурных и воинственных петровских лет новой придворной культуры. Появление русской «Аргениды» в переводе Тредиаковского хорошо иллюстрирует этот процесс: книга была издана при Академии, где служил переводчик, по личному распоряжению ее президента К. Г. Разумовского, принадлежавшего к ближайшему окружению императрицы Елизаветы и действовавшего от ее имени. В черновом посвящении «Аргениды» Елизавете (не допущенном в печать Ломоносовым и С. П. Крашенинниковым за «излишнее ласкательство») Тредиаковский развернуто описывал союз между литературой и монархией:
На книгу прещедрое Монаршеское токмо воззрение имеет быть достовернейшим знаком высочайшаго ей удостоения. Как скоро пресветлыя очи Вашего Величества обратятся на приносимую сию <…> тако тотчас разойдутся во все концы пространнейшаго Вашего обладания прекраснейшие Музы сея ж книги. <…> Их доброгласное пение увеселит старость, удивит, возбуждая к непоползновенной должности, людей средовечных, и просветит, наставит, купно и усладит удопонятную юность: от всякаго притом чина и состояния, от всякаго пола и возраста будет оно с радостию услышано и произведет всюду вожделенный плод, насаждая в сердца нежную и красную добродетель, а искореняя злосердую и грубую мысль. Все ж толь непренебрегаемое сие приобретение воспишется от всеобщаго благодарения премудрому Вашего Императорскаго Величества и благоуспешному о людях своих, за умножаемое просвещение, рачению и промыслу (Пекарский 1870–1873, II, 149).
Здесь описан абсолютистский политический космос, в средоточии которого располагается фигура монархини и исходящий от нее процесс всеобщего просвещения подданных. «Прекраснейшие Музы сея книги» освящают не столько литературную работу автора или переводчика, сколько политическое функционирование монархии, в чьей власти распространить производимое Академией книжное знание «во все концы пространнейшаго Вашего обладания». Посредством этого знания, или «пения», исполненный «рачения и промысла» царский взгляд «пресветлых очей Вашего Величества» достигает подданных «всякого чина и состояния» и «возбуждает» их «к непоползновенной должности». Таким образом, Тредиаковский осмысляет свой перевод и вообще издательскую деятельность Академии как медиум дисциплинарной государственности, в которой отношения автора и читающей публики поглощены отношениями самодержавия к сообществу подданных.
В посвящении Тредиаковского панегирический язык подношения переплетается с нормативной речью о литературе, опирающейся на общепризнанный авторитет Барклая. Здесь обнаруживается специфическая функция литературной теории, едва ли не преобладавшей в русской печати середины XVIII в. над оригинальным сочинительством. В посмертно опубликованной статье «Русская литературно-критическая мысль в 1730–1750‐е годы» Г. А. Гуковский заключал:
<…> нормализация литературы <…> была необходимым отражением общего содержания государственной жизни русского народа в первой половине XVIII столетия. Личность и масса подчинились нормам закона, правительственной схемы, подчинились целенаправленному устремлению государства, воплощенного и в Петре, и во власти вообще. Дисциплина, норма стали основой силы страны, ее поступательного хода, принципом ее обновленного бытия. <…> Возникла внутренняя необходимость регламентировать, узаконить, ввести в норму, подчинить государственным, общенародным задачам и формам и культуру, и ту область ее, где стихийность, непреднамеренность, эмоциональный произвол могли быть особенно сильны, – искусство, прежде всего – литературу, поэзию. <…> Необходимо было сделать ее системой, введя ее тем самым в круг явлений государственного подчинения и гражданского бытия (Гуковский 1962а, 109–110).
Соображения Пумпянского и Гуковского были развернуты в теоретическую конструкцию учеником Гуковского Ю. М. Лотманом. В первую очередь мы имеем в виду его почти незамеченную итоговую монографию «Очерки по истории русской культуры XVIII – начала XIX века» (1992), опубликованную посмертно в коллективном сборнике. Это исследование, включающее в себя многие хорошо известные статьи и положения Лотмана, встраивает вопрос о литературе и толкования отдельных текстов в масштабную и методологически амбициозную картину культурных процессов, в ходе которых складывались и эволюционировали отношения между властью, текстом, читательской публикой и политической субъектностью.
Рассматривая вопрос о «классицизме», Лотман предлагает видеть в нем теоретическую фикцию:
XVIII век был веком теорий. Особенно это относится к России, которая сознательно строила свою культуру как «новую», оторванную от традиций и подлежащую реконструкции на основе идеальных теоретических моделей. Однако отношение к теории было специфическим. Теория – будь то теория государственности, проекты построения идеальных городов (при Петре – Петербурга, при Екатерине II – Твери), создание грамматики или построение теории литературных жанров – не была абстракцией эмпирической реальности, а тяготела к идеалу, утопии, к которым жизнь призвана стремиться, но достичь которых она по природе своей не может. Как жизнь относилась к литературным произведениям, видя в них свою идеальную, но недостижимую норму, так и художественные тексты относились к литературной теории. <…> Поэтому теории XVIII в. носят в основном нормативный характер. Они не познают законы литературы, а предписывают их (Лотман 1996, 128–129).
Отправляясь от «классицистической» теории и не совпадающей с ней литературной практики XVIII в., Лотман обнаруживает дискурсивную природу дисциплинарной государственности начала Нового времени и ее зависимость от работы и регламентации языка. В категориях более ранней статьи Лотмана и Б. А. Успенского «К семиотической типологии русской культуры XVIII века» (1973), «метатексты, нормирующие „правильное“ творчество» стоят в одном ряду с прочими утопическими «грамматиками культуры», к которым принадлежит и «„регулярная“ система метагосударственности» (Лотман, Успенский 1996а, 433, 438).
К сходным выводам приходили одновременно с Лотманом и западные исследователи. В работе 1983 г. Петер Бюргер разрабатывает понятие «института литературы» (Institution Literatur):
Это понятие описывает не совокупность всех бытующих в данную эпоху литературных практик, но ту из них, которой свойственны по меньшей мере три следующих признака: претензия на определенную функцию в системе общества в целом; построение эстетического кодекса, одновременно легитимирующего отсечение иных литературных практик; претензия на универсальность (институт литературы определяет, что в данную эпоху считается литературой). Истолкованное таким образом понятие институции наделяет первостепенным значением нормативный уровень, поскольку именно он определяет поведение производителей и потребителей [литературы] (Bürger 1983, 13).
В теоретико-литературных сочинениях выясняется и фиксируется место словесности в «системе общества в целом». Так, законы классической поэтики, получившие во Франции «статус официальной литературной доктрины» благодаря авторитету Ришелье (ценившего, как мы помним, «Аргениду») и основанной им академии, «можно считать нормативным средоточием феодально-абсолютистского института литературы» (Ibid., 16).
Формирование «института литературы» в России середины XVIII в., о котором пойдет речь в предлагаемой книге, нужно рассматривать с учетом концептуальных перспектив, намеченных Лотманом и его кругом и созвучных параллельной работе западных историков культуры.
Узловое место тут принадлежит многосоставному тезису о сродстве и взаимосвязи вымысла и власти. «Очерки…» Лотмана начинаются с главы «Идеи общественного развития в русской культуре», описывающей политические представления Древней Руси и Нового времени как формы культурного сознания, в котором «социальная психология» встречается с символической работой «семиозиса» (Лотман 1996, 38). Свой анализ власти Лотман начинает с проведенного де Соссюром различения «между знаком и символом как выражением условного и безусловного в семиотике». Согласно тезису Лотмана, власть опирается на механику символа, который, в отличие от знака, «всегда не до конца произволен»:
Власть в перспективе символического сознания русского средневековья наделяется чертами святости и истины. Ценность ее безусловна – она образ небесной власти и воплощает в себе истину. Ритуалы, которыми она себя окружает, являются подобием небесного порядка. <…> Распространяя на государственность религиозное чувство, социальная психология этого типа требовала от общества как бы передачи всего семиозиса царю, который делался фигурой символической, как бы живой иконой (Лотман 1996, 37–38).
Символическая природа власти не разрушается с петровскими преобразованиями, но служит их фундаментом:
Петровская государственность не была воплощенным символом, т. к. сама представляла конечную истину, не имея инстанции выше себя, не была ничьей представительницей или образом. Однако она, как и допетровская централизованная государственность, требовала веры в себя и полного в себе растворения. Человек вручал себя ей. Создавалась светская религия государственности <…> (Там же, 40).
В понятии веры анализ покорности как аффекта, определяющего коллективную и личную политическую субъектность, смыкается с вопросом о семиотическом отношении – доверии – субъекта к знаку. Сутью петровского слома оказывается секуляризация, обнаруживающая условность семиозиса и перестраивающая соответствующим образом дискурсивные конструкции власти. Эта секуляризация представляет собой не столько линейный процесс вытеснения, сколько диалектическую динамику семиотических смежностей и различий:
Государственная идеология нового времени и в России, и в Европе была связана с возникновением светской, полностью секуляризованной культуры. Более того, эта новая идеология была полемически противопоставлена Средневековью, его идеям и ценностям. Однако в России такая противопоставленность не исключала глубокой внутренней преемственности. Это позволяет одни и те же факты государственной жизни начала XVIII в. трактовать и как результат полного разрыва со «стариной», и в качестве ее органического продолжения <…> Одним из путей создания секуляризованной государственной идеологии была постановка государства на то место, которое в средневековом мировоззрении занимала церковь, а церкви – на место, отводимое в культурной модели Средневековья государству (Там же, 41).
Этот диалектический анализ секуляризации, не востребованный исследователями русской истории, созвучен, однако, одной из самых влиятельных работ о взаимоотношениях между церковью и государством на Западе – труду Эрнста Канторовича «Два тела короля: Исследование по средневековой политической теологии» (1957). Подобно Лотману, Канторович описывает переплетение идей о церкви и государстве в Средние века и Новое время:



