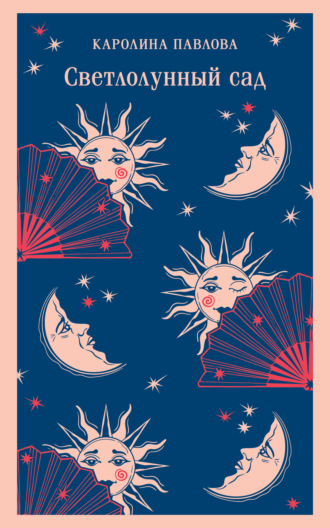
Каролина Павлова
Светлолунный сад
4
Брак Павловых разрушился в начале 1850-х гг. Его разрушили вскрывшаяся любовная связь мужа с родственницей жены Е. А. Танненберг (потом она стала его третьей, гражданской женой) и, в особенности, его страсть к карточной игре, начавшей угрожать семейному благосостоянию.
К 1851 г. относится стихотворение Павловой «Портрет», где она с чувством огромного разочарования изобразила своего мужа, а в 1853 г. произошел окончательный разрыв. Он сопровождался скандальными обстоятельствами: в январе 1853 г. отец Каролины написал жалобу московскому генерал-губернатору графу А. А. Закревскому, обвиняя Павлова в игорных махинациях, тот санкционировал его арест и обыск в его кабинете, там нашли запрещенную литературу, и в апреле, после отсидки в долговой тюрьме, Павлов был выслан в Пермь (ссылка продлится только до декабря того же года, освободиться ему помогут друзья)[21].
В обществе почти единодушно сочувствовали мужу, а виновницей случившегося считали жену. От общественного осуждения в мае 1853 г. Павлова бежала в Петербург, взяв с собой сына и престарелых родителей. Однако там началась эпидемия холеры, и отец, заразившись, умер уже в июне. Напуганная Павлова, поручив похороны посторонним людям, с сыном и матерью бежала из Петербурга в Дерпт (ныне г. Тарту, Эстония).
Вся эта история повредила ее репутации. Злые толки вокруг ее имени еще долго твердились в литературных кругах. В основном они были несправедливые. Известный юрист А. И. Кони, разбиравшийся с этой историей через полвека, приходил к выводу, что действия Павловой, «прибегнувшей к крайним мерам борьбы для защиты достояния сына», были оправданными и обвинять ее не в чем[22].
Как бы то ни было, в 1853 г. закончился самый благополучный период в ее жизни: она навсегда рассталась и с мужем, и с Москвой (еще один раз – с последним коротким визитом – она заедет сюда в 1858 г.).
В Дерпте она находилась до весны 1854 г., пережив здесь новое любовное увлечение и творческий подъем.
Предметом ее увлечения стал Борис Исаакович Утин (1832–1872), студент Дерптского университета, юрист, впоследствии профессор в Санкт-Петербургском университете. С его именем связывают ряд стихотворений Павловой – гипотетически реконструируемый так наз. «утинский цикл» (1854–1855): «Мы странно сошлись. Средь салонного круга…», «Меняясь долгими речами…», «Зачем судьбы причуда…», «Когда один, среди степи Сирийской…», «К***» («Когда шучу я наудачу…»), «Ты силу дай! Устам моим храненье…», «Две кометы», перевод из Дж. Байрона «К… («Хоть гроза неприязни и горя…»), «За тяжкий час, когда я дорогою…», «К…» («Да, я душой теперь здорова…»)[23]. Еще одно стихотворение было найдено и опубликовано в 1982 г. (в наст. изд. оно не вошло, поэтому приводим его полностью):
Пишу не смело я, не часто,
Чернил боюся, как огня,
Литературного балласта
Найдется мало у меня;
Его легко поглотит Лета;
Лежит пока спокойно где-то
Он в ящике на самом дне;
Признаться должно, нет во мне
Отважной удали поэта;
К варьяциям избитых тем
Страшусь я приступать стихами;
Но нынче к вам пишу – вы сами
С улыбкой спросите: зачем?
Не будем требовать мы строго
Причин сему – я к вам пишу
Затем, что тяжкого я много
Давным-давно в душе ношу,
Что вдруг грустней мне стало что-то
И что сильна порой охота
Дать волю думе и стиху;
Затем, что складно иль не складно,
Мне уже нужно, мне отрадно
Вам говорить, как на духу[24].
Иногда – без достаточных, на наш взгляд, оснований – к «утинскому циклу» присоединяют и написанное в феврале 1854 г. стихотворение, которое потом станет «визитной карточкой» творчества Павловой, самым известным ее стихотворением. Речь в нем идет о поэзии, ставшей главным содержанием, смыслом и радостью ее жизни:
Ты, уцелевший в сердце нищем,
Привет тебе, мой грустный стих!
Мой светлый луч над пепелищем
Блаженств и радостей моих!
Одно, чего и святотатство
Коснуться в храме не могло;
Моя напасть! мое богатство!
Мое святое ремесло!
Проснись же, смолкнувшее слово!
Раздайся с уст моих опять;
Сойди к избраннице ты снова,
О роковая благодать!
Уйми безумное роптанье.
И обреки всё сердце вновь
На безграничное страданье,
На бесконечную любовь!
5
Весной 1854 г. Павлова покидает Дерпт и переезжает в Петербург. Одна из причин переезда – желание быть рядом с Утиным, уже окончившим университет и ищущим места в столице; однако отношения между ними не получают развития и скоро угасают.
В 1855 г. она переводит поэму Адельберта фон Шамиссо (1781–1838) «Salas у Gômez»[25] о человеке, выброшенном кораблекрушением на необитаемой остров, на безжизненную скалу, и неведомо для кого до самой смерти выцарапывавшем на каменных плитах свои мысли и повесть о своей жизни:
На камне я нагом и одиноком
Очнулся, одинокий и нагой…
(«Salas у Gômez»: «Первая плита»)
В Петербурге она провела два года, успев за это время опубликовать ряд переводов (в том числе первое действие стихотворной комедии Мольера «Амфитрион») и написать целый ряд стихотворений. В их числе было еще одно историософское стихотворение – «Праздник Рима» (1854), напечатанное в «Отечественных записках» в 1855 г. Языческий Рим празднует и глумится над христианами, не зная, что Божий суд над ним уже свершился, что где-то в неведомых римлянам далеких краях уже тронулись с места гунны, которым предстоит этот Рим уничтожить. Сходным темам позднее Павлова посвятит еще два стихотворения – «Ужин Поллиона» (1857) и «На освобождение крестьян» (1862).
«Праздник Рима» был написан под впечатлением от поражения России в Крымской войне. В первой журнальной публикации стихотворения после предупреждения Риму (которым оно в позднейшей версии заканчивается, см. в наст. изд.) следовали еще шесть строф с обращением к современным западным державам, считающим себя победителями. В сборнике стихотворений 1863 г. Павлова сняла эти строфы (возможно, как потерявшие, на ее взгляд, актуальность).
Пируйте, гордые державы,
Владыки западной страны:
Увенчаны вы блеском славы,
Богатством вы наделены.
Успешны были ваши брани –
Вы Африканский взяли край.
Шлет Индия свои вам дани,
Свои вам дани шлет Китай.
Шумит разгульная тревога;
Ваш длинный праздник зол и рьян;
На нем грехов свершилось много,
И много пало христиан.
Всегда утеха вам готова,
Вам гибель ближних не урон:
На смерть идущие вам снова
Свои завтра принесут поклон.
Пируйте смело, тешьтесь, Римы!
Зачем скрывать вам свой разврат?
Всемощны вы, вы невредимы,
Вам нет судей, вам нет преград!
И видят лишь хоры небесных светил,
Смотря на безумье заносчивых сил,
На грех, грабежи и пожары,
Каких шлет вам Бог неизвестных Аттил,
Какие тяжелые кары[26].
Весной 1856 г. Павлова отправилась в заграничное путешествие, которое продлится до 1858 г. Побывала в Германии, Швейцарии, Италии, а также в Константинополе. Поэтические впечатления отразились в ряде ее стихотворений, тогда написанных. В конце весны 1858 г. она возвращается в Россию, за два месяца успевает посетить Москву и Петербург, а затем уезжает уже навсегда.
В 1859 г., когда Павлова уже снова была заграницей, в журнале «Русский вестник» печатается ее поэма «Кадриль», над которой она работала начиная с 1840-х гг. После «Двойной жизни» это второе (и последнее) крупное по объему произведение Павловой. В «Кадрили» вновь изображается светское общество: четыре дамы рассказывают друг другу свои сердечные истории. Поэма вышла с посвящением покойному Баратынскому (он умер в 1844 г.), а заканчивалась неожиданной отсылкой к Державину, к его оде «На смерть князя Мещерского» («Глагол времен! металла звон! / Твой страшный глас меня смущает…»):
Графиня судорожно встала,
Рукой дрожащей опахало
Схватила быстро и букет:
«Пора, поедем! я готова».
Все поднялись, раздумья злого
Стряхая неуместный след.
Пронесся легкий шум; и снова
Смолк опустелый кабинет.
Лишь с мраморного пьедестала,
Как неземной и вещий глас,
Раздался резко звон металла
И прогудел двенадцать раз.
6
В 1858 г. Павлова поселилась в Дрездене, где прожила до самого конца своей долгой по тем временам жизни (скончалась в возрасте 86-х лет).
В 1863 г. в России вышел первый (и единственный прижизненный) сборник ее русских стихотворений[27]. В сборнике было 97 стихотворений, расположенных по годам написания: первое – «Е. М<илькееву>» («Да, возвратись в приют твой скудный…») (1838), последние – относящиеся к 1861 г. «Порт марсельский» (по стихотворной форме и содержанию намеренно напоминающее об одном из последних стихотворений Баратынского «Пироскаф») и «Дорога», прощальное стихотворение:
…Бегут вдоль дороги все ели густыя
Туда, к рубежу,
Откуда я еду, туда, где Россия;
Я вслед им гляжу.
Бегут и, качая вершиною темной,
Бормочут оне
О тяжкой разлуке, о жизни бездомной
В чужой стороне.
К чему же мне слушать, как шепчутся ели,
Все мимо скользя? –
О чем мне напомнить они б ни сумели, –
Вернуться нельзя!
Последние известные нам оригинальные стихотворения Павловой на русском языке относятся к 1862 г., одно из них посвящено поэтическому труду – «Труд ежедневный, труд упорный!..» Она его продолжала: перевела на русский язык драму Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна» (полн. изд. 1868), но вообще она вернулась тому, с чего начинался ее творческий путь, – к переводам с русского на немецкий. На этой почве она подружилась с А. К. Толстым, став главным переводчиком и пропагандистом его творчества в Германии. Кроме многих стихотворений и баллад, она перевела его крупные произведения – драматическую поэму «Дон Жуан», трагедии «Смерть Иоанна Грозного» и «Царь Федор Иоаннович». В переводах Павловой эти трагедии представлялись в немецких театрах. Она переводила на немецкий язык и других авторов, постоянно до конца занимаясь литературным трудом. Ее сочинения и переводы на немецком языке были собраны и изданы в трех томах в 1994 г.[28]
После смерти А. К. Толстого (в 1875 г.) и сына Ипполита[29] (в 1882 г.) связи Павловой с Россией практически прервались. К концу XIX века для большинства русских читателей она была полузабытой поэтессой давнего времени. Когда Павлова скончалась 14 декабря 1893 г., о ней в России немногие вспоминали. Она лишь немного, каких-то десять лет не дожила до возрождения интереса к ее поэзии, а вернее – до настоящего ее открытия. В начале XX века ее поэзия оказалась востребована, к умножению и распространению ее славы были причастны Брюсов, Блок, Андрей Белый и многие другие, а Марина Цветаева одну из своих поэтических книг назвала словом, взятым из стихотворения Павловой: «Ремесло» (1923).
В. Л. Коровин
Стихотворения
Сфинкс
Эдипа сфинкс, увы! он пилигрима
И ныне ждет на жизненном пути,
Ему в глаза глядит неумолимо
И никому он не дает пройти.
Как в старину, и нам, потомкам поздним,
Он, пагубный, является теперь,
Сфинкс бытия, с одним вопросом грозным,
Полукрасавица и полузверь.
И кто из нас, в себя напрасно веря,
Не разрешил загадки роковой,
Кто духом пал, того ждут когти зверя
Наместо уст богини молодой.
И путь кругом облит людскою кровью,
Костями вся усеяна страна…
И к сфинксу вновь, с таинственной любовью,
Уже идут другие племена.
22 апреля 1831
Е. М<Илькееву>
Да, возвратись в приют свой скудный:
Ответ там даст на глас певца
Гранит скалы и дол безлюдный, –
Здесь не откликнутся сердца.
Забудь, что мы тебе сказали,
Покинь, что встретил в первый раз;
Тебя и мы не разгадали,
И ты, пришлец, не понял нас.
В глухую степь, у края света,
Далеко от людских бесед,
Туда забросил бог поэта;
Ему меж нами места нет.
Не гул там разговоров скучных,
Там бури бешеный набег,
И глас лесов седых и звучных,
И шум твоих сибирских рек.
Там под родными небесами,
Не зная нашей суеты,
Забывши нас, забытый нами,
Поэтом сохранишься ты!
Ноябрь 1838
Сонет
Не дай ты потускнеть душе зеркально чистой
От их дыхания, невинный ангел мой!
Как в детстве, отражай игрой ее сребристой
Все сказки чудные, дар старины святой.
Дивися хитростям русалки голосистой,
Пусть чудится тебе косматый домовой;
Волшебных тех цветов храни венок душистый,
Те суеверия – наряд любви младой.
Верь, дева милая, преданиям старинным,
В сердечной простоте внимай рассказам длинным;
Пусть люди мудрые их слушают шутя,
Но ты пугайся их вечернею порою;
Моей души твоя хотела быть сестрою,
Беспечный же поэт всегда душой дитя.
<1839>
«Шепот грустный, говор тайный…»
Шепот грустный, говор тайный,
Как в груди проснешься ты
От неясной, от случайной,
От несбыточной мечты?..
И унылый, и мятежный,
Душу всю наполнит он,
Будто гул волны прибрежной,
Будто колокола звон.
И душа трепещет страстно,
Буйно рвется из оков,
Но бесплодно, но напрасно:
Нет ей звуков, нет ей слов.
О, хоть миг ей! миг летучий,
Миг единый, миг святой!
Чтоб окрепнуть немогучей,
Чтобы вымолвить немой!
Есть же светлые пророки,
Вдохновенья торжества,
Песен звучные потоки
И державные слова!..
Шепот грустный, говор тайный,
Как в груди проснешься ты
От неясной, от случайной,
От несбыточной мечты!..
<1839>
Поэт
Он вселенной гость, ему всюду пир,
Всюду край чудес;
Ему дан в удел весь подлунный мир,
Весь объем небес;
Всё живит его, ему всё кругом
Для мечты магнит:
Зажурчит ручей – вот и в хор с ручьем
Его стих журчит;
Заревет ли лес при борьбе с грозой,
Как сердитый тигр, –
Ему бури вой лишь предмет живой
Сладкозвучных игр.
1839
Да иль нет
За листком листок срывая
С белой звездочки полей,
Ей шепчу, цветку вверяя,
Что скрываю от людей.
Суеверное мечтанье
Видит в нем себе ответ
На сердечное гаданье –
Будет да мне или нет?
Много в сердце вдруг проснется
Незабвенно-давних грез,
Много из груди польется
Страстных просьб и горьких слез.
Но на детское моленье,
На порывы бурных лет
Сердцу часто провиденье
Молвит милостиво: нет!
Стихнут жажды молодые;
Может быть, зашепчут вновь
И мечтанья неземные,
И надежда, и любовь.
Но на зов видений рая,
Но на сладкий их привет
Сердце, жизнь воспоминая,
Содрогнувшись, молвит: нет!
Июнь 1839
«Есть любимцы вдохновений…»
Есть любимцы вдохновений,
Есть могучие певцы;
Их победоносен гений,
Им восторги поколений,
Им награды, им венцы.
Но проходит между нами
Не один поэт немой,
С бесполезными мечтами,
С молчаливыми очами,
С сокровенною душой.
Этих манит свет напрасно,
Мысль их девственно дика;
Лишь порой, им неподвластна,
Их слеза заблещет ясно,
Вспыхнет жарко их щека.
Им внушают вдохновенье
Не высокие труды,
Их призванье, их уменье –
Слушать ночью ветра пенье
И влюбляться в луч звезды.
Пусть не их толпа лелеет;
Пусть им только даст она
Уголок, где шум немеет,
Где полудня солнце греет,
Где с небес глядит луна.
Не для пользы же народов
Вся природа расцвела:
Есть алмаз подземных сводов,
Реки есть без пароходов,
Люди есть без ремесла.
Сентябрь 1839
«Да, много было нас, младенческих подруг…»
Да, много было нас, младенческих подруг;
На детском празднике сойдемся мы, бывало,
И нашей радостью гремела долго зала,
И с звонким хохотом наш расставался круг.
И мы не верили ни грусти, ни бедам,
Навстречу жизни шли толпою светлоокой;
Блистал пред нами мир роскошный и широкой,
И всё, что было в нем, принадлежало нам.
Да, много было нас, – и где тот светлый рой?..
О, каждая из нас узнала жизни бремя,
И небылицею то называет время,
И помнит о себе, как будто о чужой.
Декабрь 1839
«Нет, не им твой дар священный!..»
Нет, не им твой дар священный!
Нет, не им твой чистый стих!
Нет, ты с песнью вдохновенной
Не пойдешь на рынок их!
Заглушишь ты дум отзывы,
И не дашь безумцам ты
Толковать твои порывы,
Клеветать твои мечты.
То, чем сердце трепетало,
Сбережешь ты от людей;
Не сорвешь ты покрывала
С девственной души своей.
Тайну грустных вдохновений
Не узнают никогда;
Ты, как призрак сновидений,
Пронесешься без следа.
Безглагольна перед светом,
Будешь петь в тиши ночей:
Гость ненужный в мире этом,
Неизвестный соловей.
<1840>
Монах
Бледноликий
Инок дикий,
Что забылся ты в мечтах?
Что так страстно,
Так напрасно
Смотришь вдаль, седой монах?
Что угрюмой
Ищешь думой?
Чужд весь мир тебе равно;
Что любил ты,
С кем грустил ты, –
Всё погибло уж давно.
Бросил рано
Свет обмана
Ты для мира божьих мест;
Жизни целью
Сделал келью,
Вместо счастья, взял ты крест.
Лет ты много
Прожил строго,
Память в сердце истребя;
Для былого
Нет ни слова,
Нет ни вздоха у тебя.
Или тщетно
Долголетно
Ты смирял душевный пыл?
Иль в святыне
Ты и ныне
Не отрекся, не забыл?
Бледноликий
Инок дикий,
Что забылся ты в мечтах?
Что так страстно,
Так напрасно
Смотришь вдаль, седой монах?
Январь 1840
Дочь жида
Томно веют сикоморы,
Сад роскошный тих и нем;
Сон сомкнул живые взоры,
Успокоился гарем.
Что, главу склоня так низко,
В зале мраморной одна,
Что сидишь ты, одалиска,
Неподвижна и бледна?
Или слушаешь ты, дева,
Средь заветной тишины
Звуки дальнего напева,
Дальный гул морской волны? –
В область счастья, в область мира,
Красотой своей горда,
Ждет могучего эмира
Дочь единая жида.
Без заботы, без боязни
Здесь забудет, хоть на миг,
И победы он, и казни,
И врагов последний крик.
Много ль сладостных приманок
Для владыки ты найдешь?
Чернооких ли гречанок
Песнь влюбленную споешь?
Или гурией небесной
Перед ним запляшешь ты?
Или сказкою чудесной
Развлечешь его мечты?
«Нет, не песней, нет, не сказкой
Встречу здесь владыку я, –
Но святою, чистой лаской,
Лучше плясок и пенья.
В этот жданный час отрады
Вспомню мать свою я вновь,
Все эмировы награды,
Всю эмирову любовь.
И узнает он немую
Думу тайную мою;
Тихим вздохом очарую,
Взором страстным упою.
И, склонясь с улыбкой нежной
К повелителю лицом,
Жар груди его мятежной
Усмирю моим ножом».
Январь 1840
Мотылек
Чего твоя хочет причуда?
Куда, мотылек молодой,
Природы блестящее чудо,
Взвился ты к лазури родной?
Не знал своего назначенья,
Был долго ты праха жилец;
Но время второго рожденья
Пришло для тебя наконец.
Упейся же чистым эфиром,
Гуляй же в небесной дали,
Порхай оживленным сапфиром,
Живи, не касаясь земли. –
Не то ли сбылось и с тобою?
Не так ли, художник, и ты
Был скован житейскою мглою,
Был червем земной тесноты?
Средь грустного так же бессилья
Настал час урочный чудес:
Внезапно расширил ты крылья,
Узнал себя сыном небес.
Покинь же земную обитель
И участь прими мотылька;
Свободный, как он, небожитель,
На землю гляди свысока!
Февраль 1840
«Небо блещет бирюзою…»
Небо блещет бирюзою,
Золотисты облака;
Отчего младой весною
Разлилась в груди тоска?
Оттого ли, что, беспечно
Свежей радостью дыша,
Мир широкий молод вечно,
И стареет лишь душа?
Что всё живо, что всё цело, –
Зелень, песни и цветы,
И лишь сердце не сумело
Сохранить свои мечты?
Оттого ль, что с новой силой
За весной весна придет
И над каждою могилой
Равнодушно расцветет?
Февраль 1840
Старуха
1
«Не гони неутомимо
По широкой мостовой,
Не скачи так скоро мимо
Ты, мой всадник удалой!
Не гляди ты так спесиво,
Ты не слушай так слегка:
Знаю я, как молчаливо
Дума точит смельчака;
Как просиживает ночи
Он, угрюм, неизлечим;
Как напрасно блещут очи
Всех красавиц перед ним.
Средь веселий залы шумной,
В тишине лесной глуши
Знаю бред его безумный,
Грусть блажной его души.
Усмехайся ты притворно,
Погоняй коня ты вскок;
Не всегда же так проворно
Пронесешься, мой ездок.
Хоть стучат коня копыты, –
Не заглушат слов моих;
Хоть скачи ты, хоть спеши ты, –
Не ускачешь ты от них
И взойдешь в мою лачужку,
Мой красавец, в добрый час;
Ты послушаешь старушку,
Не сведешь с нее ты глаз».
Пыль вдали столбом взвивалась,
Проскакал ездок давно,
И старуха засмеялась
И захлопнула окно.
И как только слышен снова
Звонкий топот бегуна,
Уж красавца молодого
Ждет старуха у окна.
Словно как стрелу вонзает
В глубину сердечных ран,
Взор за юношей бросает,
Как невидимый аркан.
И пришло то время скоро,
Что с утра до тьмы ночной
Ржал у ветхого забора
Быстроногий вороной.
Что творится у старухи
С чернобровым молодцом? –
Уж в народе ходят слухи,
Слухи странные о том.
2
Близ лампады одинокой
Он сидит, нетерпелив,
В сумрак комнаты глубокой
Очи жгучие вперив.
Что младому сердцу снится?
Ждет чего оно теперь?
Дверь, белея, шевелится,
И старуха входит в дверь;
Входит дряхлая, седая,
И садится, и опять,
Обольщая, возмущая,
Начинает речь шептать.
Юной грусти бред мятежный,
Сокровенные мечты
Одевает в образ нежный,
В непорочные черты.
Говорит про деву-чудо,
Так что верится едва,
И берет, бог весть откуда,
Ненаслушные слова:
Как щеки ее душистой
Томно блещет красота,
Как сомкнуты думой чистой
Недоступные уста;
Как очей синеет бездна
Лучезарной темнотой,
Как они сияют звездно
Над мирскою суетой;
Как спокоен взор могучий,
Как кудрей густая мгла
Обвивает черной тучей
Ясность строгого чела;
Как любить ее напрасно,
Как, всесильная, она
Увлекательно прекрасна,
Безнадежно холодна. –
А в покое темно, глухо,
Бьет вдали за часом час;
Соблазнительно старуха
Шепчет, шепчет свой рассказ,
Говорит про деву-чудо,
Так что верится едва,
И берет, бог весть откуда,
Ненаслушные слова.
3
На коне неутомимо
По широкой мостовой
Уж давно не скачет мимо
Наш красавец удалой.
В зимней стуже, в летнем зное
Он и ночью, он и днем
В запертом сидит покое
Со старухою вдвоем.
Неподвижный, весь исчахлый,
Он сидит как сам не свой
И в лицо старухе дряхлой
Смотрит с жадностью немой.
Февраль 1840


