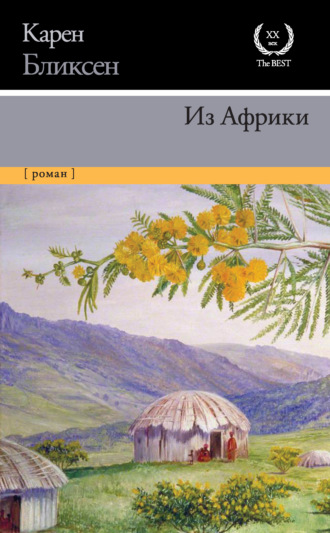
Карен Бликсен
Из Африки
Каманте вряд ли представлял себе, каким вкусом должно обладать европейское блюдо. Несмотря на крещение и связь с цивилизацией, он остался в душе кикуйю, преданным традициям своего племени и считающим их единственным достойным образом жизни. Иногда он пробовал блюда, которые готовил, но неизменно с гримасой отвращения, подобно ведьме, снимающей пробу со своего варева. Сам он довольствовался кукурузными початками. Иногда на него находило затмение, и он предлагал мне племенной деликатес – жареный сладкий картофель или шматок овечьего жира, – напоминая при этом пса, который, прожив долгую жизнь среди людей, нет-нет да и преподнесет вам в подарок косточку.
Думаю, Каманте всегда относился к тщательности, с которой мы готовим себе еду, как к полнейшему сумасшествию. Иногда я делала попытки вызвать его на откровенность, но он, проявляя порой высочайшую искренность, здесь держал глухую оборону. Мы трудились в кухне бок о бок, исповедуя каждый собственные представления о значении кулинарии.
Я отправляла Каманте на обучение в клуб «Мутаига» и к поварам своих друзей в Найроби, когда мне доводилось попробовать у них что-то новое и вкусное, так что со временем мой дом прославился в колонии как место с отменной кухней. Мне это доставляло огромное удовольствие. Я очень хотела похвастаться своим искусством, поэтому радовалась, когда имела возможность принимать гостей. Каманте, напротив, не была нужна ничья похвала. При этом он помнил вкусы всех моих друзей, часто наведывавшихся на ферму.
– Для бваны Беркли Коула я приготовлю рыбу в белом вине, – сообщал он важно, словно речь шла о безумце. – Он сам прислал белое вино.
Чтобы заручиться авторитетным мнением, я пригласила отужинать у меня моего старого знакомого Чарлза Балпетта из Найроби. Он был путешественником прежнего поколения, ничем не похожим на Филеаса Фогга (персонаж романа Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней»): он объездил весь мир и повсюду пробовал самые лучшие кушанья, не беспокоясь о последствиях, а стремясь к сиюминутным удовольствиям. Книги полувековой давности о спорте и горных восхождениях повествуют о его атлетических подвигах и покорении им горных вершин в Швейцарии и Мексике. В книге о знаменитых пари под названием «Легкость бытия» рассказано, как он на спор переплыл Темзу в вечернем костюме и цилиндре; позднее он, набравшись романтизма, пересек вплавь, подобно Линдеру и лорду Байрону, Геллеспонт. Я была счастлива, когда Чарлз откликнулся на мое приглашение: угощать приятного вам человека блюдами собственного приготовления – несравненное удовольствие. В знак благодарности он поделился со мной своими взглядами на еду и на многое сверх того и признался, что никогда еще так прекрасно не ужинал.
Сам принц Уэльский оказал мне честь своим визитом на ферму и похвалой в адрес нашего камберлендского соуса. Тогда я в первый и в последний раз увидела глубокий интерес Каманте к похвале его стряпни, которую я ему пересказала: африканцы уважают царственных особ и любят о них судачить. Спустя много месяцев ему захотелось еще раз услышать то же самое; внезапно он задал мне вопрос, прозвучавший, как фраза из учебника:
– Сыну султана понравился соус к поросенку? Он съел его целиком?
Каманте демонстрировал свою покладистость и за пределами кухни. Ему хотелось мне помогать, исходя, разумеется, из собственных представлений о том, что в жизни хорошо, а что опасно. Как-то ночью, уже после полуночи, он появился у меня в спальне с керосиновой лампой и, не произнеся ни слова, замер, как постовой. Он напоминал летучую мышь, подлетевшую к моему изголовью, так торчали у него уши.
– Мсабу, – проникновенно обратился он ко мне, – думаю, тебе лучше встать.
Я испуганно села в кровати: неужели случилась беда? Но в случае неприятностей передо мной стоял бы Фарах. Я сказала Каманте, чтобы он шел восвояси, но он не двинулся с места.
– Мсабу, – повторил он, – по-моему, тебе лучше встать. По-моему, на землю спустился Бог.
От таких слов я вскочила и спросила, почему он так решил. Каманте важно провел меня в столовую, окна которой выходили на запад, на холмы. Там полыхала трава, и пожар распространился с вершины холма до равнины. Из окна он казался вертикальным огненным столбом или даже шагающей в нашу сторону гигантской фигурой. Я некоторое время любовалась этим редкостным зрелищем, после чего принялась вразумлять стоявшего рядом Каманте. Я хотела его успокоить, полагая, что он напуган. Однако мои объяснения не произвели на него никакого впечатления: он заставил меня встать и тем самым выполнил свою миссию.
– Может быть, – ответил Каманте. – Но я решил тебя разбудить. Вдруг бы вправду на землю спустился Бог?
Дикарь в доме переселенки
Как-то раз не было дождей.
Это такой страх, такое грандиозное событие, что тот, кто его застал, никогда не забудет. Спустя годы, расставшись с Африкой и живя в северной стране с влажным климатом, такой человек вскочит среди ночи при звуке начавшегося ливня и прошепчет спросонья: «Наконец-то!»
Обычно сезон дождей начинается в конце марта и продолжается до середины июня. Перед этим воздух с каждым днем становится горячее и суше, как в Европе накануне сильной грозы, только в Африке все гораздо серьезнее.
Маасаи, соседи моей фермы, проживающие на другой стороне реки, в это время подпаливают сухую траву, чтобы с первым дождем взошла свежая травка для скота, и воздух над равниной трепещет от жара, длинные серые и радужные хвосты дыма жмутся к земле, жар и запах гари плывут над полями, как дыхание преисподней.
Гигантские тучи собираются и снова рассеиваются; где-то на горизонте уже хлещет дождь. Весь мир мечтает об одном…
Вечером, перед самым закатом, природа как бы обступает вас. Холмы приближаются вплотную, слепя зелеными и синими отблесками. Через пару часов, выйдя из дому, вы не видите в небе звезд; ночной воздух уже сулит долгожданную прохладу. Когда над головой поднимается шум – это не дождь, а всего лишь ветер в кронах деревьев. Когда начинает шелестеть под ногами – это снова не дождь, а ветер, гуляющий по поверхности земли. Когда ветер начинает клонить кукурузу к земле, шум очень напоминает дождь, но это опять не он. Вам ничего не стоит убедить себя, что ливень уже начался, но это не даст желаемого облегчения.
Только когда земля откликнется глухим ревом, а мир вокруг вас запоет на все голоса, это будет означать, что свершилось главное: хлынул дождь. Это похоже на возвращение к морю, где вы давно уже не были, или на объятия любимого.
Но однажды выдался год, когда дожди так и не пролились. Это было равносильно тому, как если бы от вас отвернулась Вселенная. Становилось все прохладнее, некоторые дни были просто холодными, однако влаги не было и в помине. Все вокруг продолжало иссыхать. Мир лишился благодати. Это была не просто хорошая или дурная погода, а отсутствие всякой погоды. Над головой пролетал дурной ветер, напоминающий сквозняк. Природа померкла; краски стерлись; поля и леса утратили всякий аромат. Не иначе, Создатель ополчился на Свое творение. На юге простирались черные, выжженные равнины, присыпанные серым и белым пеплом.
Мы день ото дня тщетно ждали дождя, прощаясь с надеждами на урожай. Вспашка, прореживание и прочие труды последних месяцев оказались напрасными. Работа на ферме замедлилась, а потом и вовсе замерла.
На равнинах и на холмах высохли озера, и на моем пруду появились новые утки и гуси. К пруду, что на краю фермы, потянулись по утрам и на закате на водопой стада зебр. Животные, голов по двести-триста, шли длинными рядами. Жеребята держались под боком у кобыл. Они не пугались меня, когда я въезжала верхом в их стадо. Заботясь о своем скоте, мы отпугивали их, потому что уровень воды неуклонно понижался и в наших водоемах. Тем не менее на берегу пруда было приятно проводить время: только там еще сохранилась какая-то зелень.
Африканцы от засухи сникли. Я не могла добиться от них ни слова о перспективах дождя, хотя они наверняка знали о естественных приметах гораздо больше нас. Под угрозой оказалось само их существование. И им, и их отцам приходилось терять в страшную засуху до девяти десятых поголовья скота. На их высохших участках осталось по несколько вялых стебельков сладкого картофеля и кукурузы.
Немного погодя я усвоила их манеру и перестала обсуждать тяжелые времена и жаловаться, так как это недостойно. Однако я оставалась европейкой, я прожила в их стране недостаточно долго, чтобы приобрести их полнейшую пассивность; лишь те из европейцев, кто провел здесь несколько десятилетий, способны сравниться в этом с африканцами. Я была молода, и инстинкт самосохранения заставлял меня собираться с силами и действовать, а не уподобляться дорожной пыли или дыму над равниной. По вечерам я стала писать рассказы, сказки, романы, переносясь мысленно в другие страны и времена.
Один знакомый, гостивший на ферме, стал слушателем моих сочинений. Когда я выходила из дома, меня едва не валил с ног ветер; небо оставалось безоблачным, усыпанным бесчисленными безразличными ко всему звездами, в мире властвовала сушь.
Сначала я занималась писательством только по вечерам, потом стала уделять этому время и по утрам, пренебрегая обязанностями хозяйки фермы. Мне было трудно решить, что предпринять: вспахать ли заново кукурузное поле и снова его засеять, оборвать ли вянущие кофейные ягоды с ветвей, чтобы сберечь деревья. Я все время откладывала решение на потом.
Я предпочитала писать в столовой, раскладывая листы бумаги по обеденному столу, потому что в перерывах между рассказами должна была заниматься счетами и отвечать на тревожные уведомления управляющего. Слуги спрашивали меня, чем я занимаюсь; я отвечала, что пытаюсь написать книгу. Они воспринимали это как последнюю попытку спасти ферму и относились к моему занятию с интересом и спрашивали, как идут дела. Они часто стояли рядом и наблюдали за мной; их лица сливались с деревянной обшивкой стен, и в темноте казалось, что вдоль стен стоят одни белые балахоны.
Все три окна столовой выходили на запад, на террасу, лужайку и лес. Дальше шел склон, потом река, служившая границей между фермой и землями маасаи. Саму реку из дома нельзя было увидеть, однако ее изгибы можно было проследить по зарослям темно-зеленых акаций на берегу. Другой берег тоже был высоким, лесистым: дальше тянулась равнина, доходящая до нагорья Нгонг.
«Будь моя вера так сильна, что сдвигала бы горы, я бы заставила горы прийти ко мне».
Ветер дул с востока; двери моей столовой всегда были распахнуты, вследствие чего западная сторона дома пользовалась у африканцев популярностью: они проложили здесь свои тропы, дабы быть в курсе событий. По этой же причине малолетние пастухи пасли на моей лужайке своих коз. Эти мальчишки, разгуливавшие по ферме при отцовских козах и овцах в поисках выпасов, связывали воедино мой цивилизованный дом и дикие окрестности. Домашние слуги-бои испытывали к ним недоверие и не впускали в комнаты, однако мальчишки относились к цивилизации с детским энтузиазмом: для них она не представляла опасности, так как они могли в любой момент с ней расстаться.
Главным символом цивилизации для них были старые немецкие часы с кукушкой на стене столовой. Часы на африканских нагорьях являются предметом роскоши. Время здесь можно круглый год определять по положению солнца, к поезду спешить не приходится, а жизнь на ферме можно полностью приспособить к своим желаниям, поэтому надобность в часах пропадает. Но мои часы были сделаны мастерски. Кукушка выскакивала из своего домика раз в час, чтобы, высунувшись из куста роз, ясным и нахальным голоском оповестить о текущем времени. Фермерской детворе ее появление всякий раз доставляло огромную радость. Они точно определяли по солнцу, когда состоится ее полуденный выход, и уже без четверти двенадцать сходились к дому со всех сторон, гоня перед собой коз, которых не смели предоставить самим себе. Головы детей и коз показывались и исчезали в кустах и в высокой траве, подобно головам лягушек в пруду.
Потом, оставив коз на лужайке, они, бесшумно ступая босыми ногами, входили в дом. Самым старшим было лет десять, самым младшим – года два. Они прекрасно себя вели и придерживались некоего церемониала, сложившегося в ходе предыдущих визитов: они могли свободно перемещаться по дому, если ничего не трогали, не садились и не открывали ртов, пока к ним не обратятся.
Когда из часов выпрыгивала кукушка, дети дружно издавали негромкий восторженный смешок. Бывало, что какой-нибудь совсем уж малолетний пастушок, еще не несущий ответственности за коз, возвращался в дом самостоятельно ранним утром, чтобы долго молча стоять перед безмолвными часами, потом разразиться на языке кикуйю признанием в любви к кукушке и важно покинуть дом. Мои бои смеялись над мальчишками; они поведали мне, что те в своем невежестве принимают кукушку за живое существо.
Теперь сами слуги оказались так же заворожены моей пишущей машинкой. Каманте мог простоять у стены целый час, стреляя глазами, словно ему хотелось разобраться в устройстве машинки, раскрутить ее и унести с собой, чтобы потом снова собрать.
Однажды вечером я, оторвавшись от бумаги, встретила его проницательный взгляд. Спустя мгновение он заговорил.
– Мсабу, – молвил он, – ты сама веришь, что можешь написать книгу?
Я ответила, что не знаю.
Чтобы правильно представить себе беседу с Каманте, надо помнить, что после каждой его реплики следовала продолжительная многозначительная пауза сознающего свою ответственность человека. Все африканцы – большие мастера в искусстве пауз, поэтому беседа с ними всегда выглядит многообещающе.
Выдержав длительную паузу, Каманте признался:
– Я не верю.
Мне больше не с кем было обсуждать свою книгу; отложив бумагу, я спросила, чем вызвано его неверие. Как оказалось, он заранее настроился на этот разговор и должным образом приготовился. Из-за его спины появилась книга – не что-нибудь, а «Одиссея», – которую он положил передо мной на стол.
– Смотри, мсабу, – начал он, – вот хорошая книга. Она с начала до конца удерживается вместе. Даже если поднять ее и встряхнуть, она не развалится. Ее написал очень умный человек. А ты, – продолжал он со смесью презрения и дружеского участия, – пишешь кусочки. Когда бои забывают закрыть дверь, кусочки разлетаются, падают на пол, и ты сердишься. Хорошей книгой этому не стать.
Я объяснила ему, что в Европе смогут все это склеить.
– Твоя книга будет такой же тяжелой, как эта? – осведомился Каманте, взвешивая «Одиссею».
Заметив мои колебания, он подал мне книгу, чтобы я могла взвесить ее сама.
– Нет, – сказала я, – не такой, но ты ведь знаешь, что в библиотеке есть и другие книги, легче этой.
– И такой твердой?
Я ответила, что сделать книгу твердой – дорогое удовольствие. Он немного постоял молча, после чего дал понять, что возлагает на мое творчество большие надежды и не испытывает больше сомнений: поднял с пола листочки и положил их на стол. После этого Каманте не удалился, а остался стоять у стола. Через некоторое время последовал новый вопрос:
– Мсабу, что есть в книгах?
Я ответила ему примером из «Одиссеи» – историей главного героя и Полифема, которого Одиссей напоил и ослепил, после чего спасся, привязавшись к брюху барана.
Каманте выслушал меня с большим интересом и высказал предположение, что этот баран принадлежал к той же породе, что овцы мистера Лонга из Элментаиты, которых он видел на выставке скота в Найроби. Потом он вернулся к Полифему и спросил, был ли тот чернокожим, как кикуйю. Получив от меня отрицательный ответ, он поинтересовался, принадлежал ли Одиссей к моему племени или семейству.
– Ты говоришь, что он назвал себя «Никто». Как это будет на его языке?
– «Оутис». На его языке это означает «Никто».
– Тебе обязательно писать о том же? – спросил он.
– Нет, – ответила я, – писать можно о чем угодно. Я могла бы написать о тебе.
Каманте, до этого разговаривавший со мной совершенно откровенно, опять замкнулся; оглядев себя, он тихо спросил, о какой его части я стану писать.
– О том времени, когда ты болел и бродил с козами по саванне. О чем ты тогда думал?
Он оглядел комнату, помолчал и ответил неопределенно:
– Sijui (не знаю).
– Тебе было страшно?
После паузы, он твердо сказал:
– Да. Все мальчики иногда боятся в саванне.
– Чего они боятся?
Каманте долго молчал, потом поднял на меня глаза и со значением ответил:
– Оутиса. Мальчики боятся в саванне Оутиса.
Через несколько дней я слышала, как Каманте втолковывал другим слугам, что в Европе книгу, которую я пишу, могли бы склеить, но что сделать ее такой же твердой, как «Одиссея», снова извлеченная по этому случаю на свет, страшно дорого. Лично ему глубоко сомнительно, что ее смогут сделать такой же синей.
У Каманте был еще один, совершенно особый талант, пригодившийся ему у меня в доме. Я убеждена, что он умел плакать по желанию.
Когда я по-настоящему сердилась на него и отчитывала, он сначала стоял передо мной навытяжку, глядя мне прямо в лицо с той глубокой скорбью, которую иногда умеют изображать африканцы. Потом его глаза набухали и наполнялись горючими слезами, которые одна за другой начинали сползать по щекам. Я знала, что это крокодиловы слезы чистой воды, и будь на его месте кто-то другой, бровью не повела бы, но Каманте был особенным экземпляром. По такому случаю его плоское деревянное лицо принимало выражение, свидетельствующее о полном уходе в себя и неизбывном одиночестве, от которого он страдал столько лет.
Такие же тяжкие слезы он проливал, должно быть, в детстве, когда пас на равнине овец. Мне становилось от этих слез не по себе; в их свете прегрешения, за которые я его клеймила, меркли, и я теряла желание их вспоминать. Они полностью меня деморализовывали. Однако я убеждена, что взаимопонимание, существовавшее между нами, помогало Каманте почувствовать, что я не принимаю его слезы за чистую монету. Для него же они были, скорее всего, церемонией, адресованной небесным силам, нежели попыткой ввести меня в заблуждение.
Самого себя он часто называл христианином. Не зная, что он подразумевает под этим определением, я пару раз предпринимала попытки выудить у него его символ веры, однако он отделывался объяснением, что верит в то же, во что и я; раз у меня моя вера не вызывает недоумения, то допрашивать его нет смысла. Я догадывалась, что это не просто уклончивость, а нечто вроде позитивной программы, признания верования. Каманте отдал себя во власть Богу белых людей и, служа таковым, пребывал в готовности выполнить любое повеление, однако не брал на себя обоснование системы, которая могла оказаться не более разумной, чем все прочие системы белых.
Иногда мое поведение шло вразрез с учением шотландской миссии, обратившей его в христианство. Тогда он спрашивал у меня, кто прав.
Как ни странно, африканцы совершенно свободны от предрассудков, хотя мы ожидаем, что первобытный народ будет жить в плену многочисленных темных табу. Объясняется это, видимо, их знакомством с самыми разными расами и племенами и вовлечением Восточной Африки в процесс оживленных обменов: сначала сюда нагрянули торговцы слоновой костью и рабами, потом – поселенцы и охотники. Практически любой чернокожий, включая пастушков с равнин, имел богатый опыт общения с представителями разных народов, отличающихся друг от друга и от него самого, как эскимос от сицилийца. Тут были и англичане, и евреи, и буры, и арабы, и сомалийцы, и индусы, и суахили, и маасаи, и кавирондо. По части восприимчивости к разным идеям кикуйю отличались большей открытостью, чем поселенец или миссионер, выросший в однородной среде и впитавший конкретные понятия. Этим объясняются почти все недоразумения между ними и белыми людьми.
Выступать перед африканцами в роли представительницы христианства – тяжелое испытание. Мне прислуживал молодой кикуйю по имени Китау, живший раньше в резервации. Это был наблюдательный, внимательный и сообразительный паренек, и я симпатизировала ему. Спустя три месяца он попросил рекомендательное письмо к моему старому знакомому шейху Али Бин Салиму, видной персоне на побережье, в Момбасе, так как видел его в моем доме и захотел перейти к нему. Китау полностью освоился с порядками в моем доме, и мне не хотелось его отпускать, поэтому я предложила ему прибавку к жалованию. Он ответил, что уходит не из-за денег, просто ему нельзя у меня оставаться. Еще в резервации он твердо решил стать либо христианином, либо магометанином, но пока не определился, кем именно. Ко мне он поступил как к христианке и на протяжении трех месяцев присматривался к обычаям и порядкам христиан. Теперь он отправится на три месяца к шейху, чтобы разобраться с обычаями и порядками магометан. На этом основании он и примет окончательное решение.
Уверена, что даже архиепископ, будучи поставлен перед лицом такого факта, сказал бы в ответ или по крайней мере подумал: «Господи, Китау, почему ты не предупредил меня об этом заранее?»
Магометане не едят мяса животного, которому не перерезал горло магометанин же, с соблюдением особых правил. Это часто создает трудности во время сафари, когда запасы провизии строго ограничены и слугам приходится питаться подстреленной вами дичью. Когда падает на землю подстреленная антилопа, слуги-магометане бросаются к ней, как на крыльях, торопясь перерезать ей горло, прежде чем она испустит дух; вы наблюдаете за ними, затаив дыхание, потому что знаете, что если они отступят с понурым видом, то это будет означать, что животное издохло без их помощи и вам придется подстрелить другое, иначе носильщики останутся без пропитания.
Когда в начале войны мне пришлось совершить длительный караванный переход, перед его началом у меня состоялась счастливая встреча с Мохамедом Шерифом, которого я попросила освободить моих людей от обязанности соблюдать этот закон на время путешествия.
Несмотря на молодость, он оказался мудрым человеком и заявил Фараху и Исмаилу:
– Эта женщина – последовательница Иисуса Христа. Стреляя из своего ружья, она будет произносить, хотя бы про себя: «Во имя Господа», что сделает ее пули равносильными ножу правоверного мусульманина. На протяжении всего перехода вам разрешено есть мясо подстреленных ею животных.
Престижу христианской религии в Африке навредила взаимная нетерпимость разных церквей.
Живя на Африканском континенте, я ездила на Рождество во французскую миссию, чтобы послушать полуночную мессу. В это время года обычно стояла жара; колокольный звон далеко разносился в прозрачном нагретом воздухе. Вокруг церкви собирался радостный народ: лавочники-французы и итальянцы из Найроби с семьями, монахини из монастырского училища, верующие из местных в нарядной одежде. Большую церковь освещали сотни свечей.
В первое Рождество, которое Каманте провел в моем доме, я сказала, что возьму его с собой на мессу как единоверца, и объяснила, словно перешла в католичество, что он увидит там много интересного и замечательного. Каманте внимательно выслушал меня, растаял душой и надел лучшее, что у него было. Но когда к дверям подъехала машина, он в смятении сообщил, что не сможет меня сопровождать. Он отказывался объяснить перемену в своем настроении и отвечал на мои вопросы упрямым молчанием.
Потом все прояснилось. До него в последний момент дошло, что я повезу его во французскую миссию, против посещения которой его настойчиво предостерегали во время его лечения в больнице у шотландцев. Я объясняла, что он не так понял своих наставников и что сейчас его долг – ехать со мной. Он буквально каменел; его глаза так сильно закатились, что в глазницах остались красоваться одни белки, лицо покрылось каплями пота.
– Нет-нет, мсабу, – прошептал он, – я с тобой не поеду. В той большой церкви, я знаю, живет мсабу мбая сана – очень дурная.
Эти слова сильно меня огорчили, однако я решила, что тем более обязана заставить его поехать, дабы Пресвятая Дева сама рассеяла невежество кикуйца. В церкви святых отцов стояла бело-голубая гипсовая фигура Святой Девы в человеческий рост, а статуи неизменно производили на африканцев сильное впечатление, тогда как рисованные изображения они воспринимали с большим трудом.
Пообещав Каманте защитить его в случае чего, я уговорила его поехать. Войдя за мной по пятам в церковь, он мигом забыл все свои страхи. Та Рождественская служба получилась самой удачной в истории миссии. Сценка рождения Христа получилась очень правдоподобной: это был доставленный из Парижа грот со Святым Семейством, освященный горящими в небе звездами и окруженный сотнями игрушечных животных – деревянными коровками и ягнятами из ваты, причем без лишней заботы о соблюдении масштабов, что должно было еще больше растрогать кикуйю.
Став христианином, Каманте расстался со страхом прикосновения к мертвому телу. Раньше он смертельно боялся трупов, и когда однажды у меня на террасе скончался мужчина, принесенный к дому на носилках, он вместе с остальными не пожелал участвовать в его выносе. В отличие от соплеменников он не попятился на лужайку, а застыл рядом, как черный истукан. Почему кикуйю, совершенно не страшащиеся смерти, так боятся прикасаться к мертвецам, тогда как белые, боящиеся умереть, проявляют деловитость в обращении с трупами? Я до сих пор не знаю ответа. Здесь реальность их существования в очередной раз расходится с нашей. Всем фермерам хорошо известно, что в этом африканцы стоят на своем до конца, так что лучше не пытаться их переубедить: они скорее сами скончаются, чем пойдут на попятный.
Христианство излечило Каманте от страха, и он стал высмеивать соплеменников за невежество. Он даже хвастался вновь обретенным бесстрашием, словно подчеркивая могущество своего Бога. Мне приходилось подвергать испытанию его веру: мы с ним трижды переносили вдвоем мертвые тела. В первый раз это была девушка кикуйю, которую переехала телега, во второй – молодой кикуйю, погибший при валке деревьев, в третий – белый старик, живший на ферме, сыгравший там свою роль и там же скончавшийся.
Старик был моим земляком, датчанином по фамилии Кнудсен. Однажды в Найроби он подошел к моей машине, представился и попросил разрешения поселиться на моей земле, ибо ему в целом свете негде было приткнуться. Я как раз тогда сократила на плантации количество белых, поэтому смогла предложить ему пустое бунгало, в котором он прожил полгода.
Старик был исключительным обитателем фермы, так как целиком принадлежал морю и казался альбатросом, утратившим способность летать. Жизненные невзгоды, болезни и пьянство окончательно его сломили; седины у подобных ему рыжеволосых субъектов обычно напоминают пепел, его же голова казалась присыпанной солью. Тем не менее природный огненный цвет нет-нет, да и пробивался. Он был потомком датских рыбаков, сам служил моряком и фигурировал среди тех, кто впервые обосновался в Африке, хотя причины его перехода к сухопутному образу жизни так и остались для меня неведомыми.
Старый Кнудсен перепробовал в жизни все, что только возможно, любые занятия, связанные с водой, рыбой и птицей, но ни в одном не преуспел. По его словам, в былые времена он владел на озере Виктория прекрасным рыболовецким хозяйством, имел сети, тянувшиеся на много миль, и моторный катер. Однако в войну он лишился своего достояния. В его описании этой трагедии фигурировал то ли некий роковой разрыв, то ли предательство близкого друга – толком разобраться было невозможно, поскольку рассказ всякий раз звучал по-новому, а старина Кнудсен, доходя до этого места, приходил в сильное волнение. Тем не менее история основывалась на каких-то подлинных событиях, так как правительство кое-как возмещало ему потерянное, выплачивая пенсию в размере шиллинга в день.
Все это я выслушивала от него, когда он навещал мой дом, что случалось нередко, так как одинокое проживание в бунгало не очень его устраивало. Юные африканцы, которых я приставила к нему в качестве слуг, то и дело от него сбегали, потому что он распугивал их вспышками беспричинного гнева и размахиванием палки. Зато будучи в хорошем настроении, он, устроившись у меня на веранде и попивая кофе, распевал датские патриотические песни, не нуждаясь в других голосах и проявляя недюжинную энергию. Нам обоим огромное удовольствие доставляла возможность побеседовать по-датски, и мы обменивались соображениями по поводу различных малозначительных происшествий на ферме, лишь бы звучал родной язык. Однако мне нелегко было сохранять с ним терпение, потому что его трудно было прервать и отправить восвояси; как и следовало ожидать, он прочно входил в роль Старого Моряка. Он был большим мастером по части плетения рыболовных сетей, которые уверенно называл лучшими в мире; у себя в бунгало старик изготовлял также кибоко – бичи из носорожьей шкуры. Шкуры он покупал у африканцев или у фермеров на озере Найваша и умудрялся разрезать одну шкуру на целых пятьдесят бичей. У меня до сих пор хранится сделанная им плеть для верховой езды, на которую я не могу налюбоваться. Правда, его занятие сопровождалось нестерпимой вонью; все его бунгало приобрело запах, источаемый гнездом хищной птицы. Позднее, когда я выкопала пруд, его чаще можно было застать на берегу, где он предавался углубленным раздумьям, отбрасывая небольшую тень, как морская птица в зоопарке.
Во впалой старческой груди Кнудсена билось простое, яростное и вспыльчивое сердце, как у мальчишки, то и дело ввязывающегося в драки; это был неисправимый романтик и боец. Он постоянно кипел ненавистью к кому-то, гневался почти на всех людей и на все учреждения, с которыми был хоть как-то связан, призывая на их головы и крыши небесный огонь и, как принято говорить в Дании, «рисуя на их стенах чертей» в прямо-таки микеланджеловской манере.
Ему доставляло огромное удовольствие натравливать людей друг на друга, подобно тому, как мальчишки любят стравливать собак или напускать собаку на кошку. Я была изумлена и восхищена тем, что старик Кнудсен сохранил душевные силы для негодования и вражды, хоть прожил трудную жизнь, на закате которой оказался в тихой гавани, где мог бы спокойно свернуть паруса. Это был то ли вечный сорванец, то ли неистовый скандинав-берсерк, но в обоих случаях его нельзя было не уважать.
О себе он говорил исключительно в третьем лице, как о «Старом Кнудсене», и вечно сопровождал свои рассказы безудержным хвастовством. Казалось, в мире не осталось ничего, что Старый Кнудсен не попробовал бы на зуб, ни одного непобедимого чемпиона, которого он не свалил бы с первого удара. Говоря о других людях, он проявлял безнадежный пессимизм и предрекал всем их начинаниям скорое и заслуженное крушение. Зато на собственный счет испытывал не менее безоговорочный оптимизм. Незадолго до смерти он, заставив дать клятву держать язык за зубами, посвятил меня в грандиозный план. Целью плана было долгожданное превращение Старого Кнудсена в миллионера и окончательное посрамление всех его недругов. План состоял в том, чтобы поднять со дна озера Найваша накопившееся там за века гуано водоплавающих птиц. Сделав последнее колоссальное усилие, он совершил путешествие с фермы на озеро для проработки деталей своего плана, но умер, не доведя дело до конца. В этом замысле было все, что привлекало его в жизни: глубоководье, птицы, спрятанное сокровище, даже некий аромат, из-за которого о подобных вещах не подобает разговаривать с дамами. Его внутреннему взору уже представал Старый Кнудсен, восседающий с трезубцем на горе золота и повелевающий волнами. Не помню, объяснил ли он мне, каким образом собирается поднять гуано со дна на поверхность.


