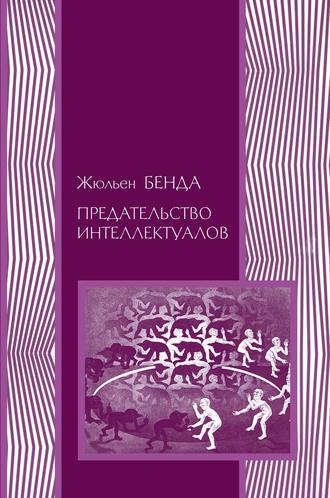
Жюльен Бенда
Предательство интеллектуалов
В. Во имя общности с эволюцией мира. Диалектический материализм. Религия «динамизма»
Другим предательством интеллектуалов является, на протяжении двадцати лет, позиция многих из них в отношении последовательных изменений мира, особенно его экономических изменений. Она состоит в отказе от рассмотрения этих изменений с помощью разума (т. е. с точки зрения, внешней по отношению к ним) и от поиска их закономерностей, согласных с рациональными принципами; в желании совпасть с самим миром, поскольку он – независимо от любой умственной точки зрения на него – осуществляет свое преобразование – «становление» – через посредство иррационального, адаптированного, или противоречивого, и потому глубоко верного сознания своих потребностей. Это тезис диалектического материализма. Он представлен, в частности, в статье г‐на Анри Лефевра в «Nouvelle Revue Française» за октябрь 1933 года «Что такое диалектика?» («Qu’est-ce que la dialectique?») и в важном очерке Абеля Ре в первом томе «Французской энциклопедии» («Encyclopédie Française»)[48].
Эта позиция, вопреки притязаниям тех, кто ее разделяет, никоим образом не является новой формой мышления, «новейшим рационализмом»[49]; она есть отрицание разума, если полагать, что разум состоит как раз не в том, чтобы сливаться с вещами, а в том, чтобы создавать в рациональных понятиях представления о них. Это позиция мистическая. Заметим, впрочем, что она в точности соответствует (хотя многие из ее сторонников это отрицают) позиции, выраженной в «Творческой эволюции»**, где утверждается, что для понимания эволюции биологических форм надо отбросить соответствующие воззрения интеллекта и соединиться с самой эволюцией как чистым «жизненным импульсом», чистой созидательной деятельностью, исключая всякое рефлексивное состояние, искажающее их чистоту. Можно еще сказать, что вследствие своей воли к совпадению с эволюцией мира – особенно с его экономической эволюцией – в качестве чистого инстинктивного динамизма этот метод есть принцип не мысли, а действия, в той степени, в какой действие противостоит мышлению, по крайней мере мышлению рефлексивному. Вот почему эта позиция имеет высшую ценность в практическом порядке, в революционном порядке и, значит, совершенно законна для тех, кто стремится только к достижению временного торжества политической, а точнее экономической, системы; для тех же, чье назначение состояло в почитании именно разума как такового, т. е. чуждого любых практических соображений, она есть явное предательство.
Но эти интеллектуалы, кроме того, утверждают, что мистическое соединение с историческим становлением есть в то же время некая идея этого становления. «Тот, – восклицает один из них, – кто не включает свою политическую идею в историческое становление, или, вернее, тот, кто не извлек ее путем рационального анализа из самого этого становления, находится как вне политики, так и вне истории»[50], – показывая своим «или, вернее», что он считает однородными причастность историческому становлению и высказывание – в результате рационального анализа! – некой идеи о нем. Мы напомним этому профессору философии слова Спинозы: «Одно дело – круг, другое – идея круга. Действительно, идея круга не есть нечто, имеющее окружность и центр, подобно самому кругу…»* – и скажем ему: «Одно дело – историческое становление, другое – идея этого становления, которая не есть становление», и еще: «Одно дело – динамизм, другое – идея динамизма, которая, будучи вещью выражаемой и передаваемой словами, т. е. тождественной себе самой в то время, когда ее высказывают, есть, напротив, нечто статичное». В том же духе один из его сотоварищей провозглашает: «Поскольку этот мир раздираем противоречиями, одна только диалектика (допускающая противоречия) позволяет рассматривать его в целом и находить в нем смысл и направленность»[51]. Иначе говоря, поскольку мир есть противоречие, идея мира должна быть противоречием; идея какой‐либо вещи должна быть той же природы, что и сама эта вещь; идея голубого должна быть голубой. И здесь мы опять скажем нашему логику: «Одно дело – противоречие, другое – идея противоречия, которая не есть противоречие». Но оставим так называемым мыслящим людям эту невероятную путаницу в данном вопросе; если она невольная, она доказывает поразительную интеллектуальную несостоятельность, а если намеренная (как я склонен думать), то свидетельствует о примечательной нечестности.
Что касается моего различения между мистическим единением с историческим становлением и формированием идеи о нем, то многие «диалектики» ответят мне: «Мы согласны с этим вашим различением; но только начав с мистического единения с нашим предметом, мы высказываем о нем по‐настоящему интеллектуальные воззрения». Здесь опять давайте проведем различие. Хочет ли «диалектик» сказать, что такое мистическое состояние превратится в интеллектуальное знание без изменения своей природы, посредством «распространения себя самого», «растяжения», «ослабления напряжения», как говорит Бергсон, повторю, учитель наших современных рационалистов? Или он хочет сказать, что это состояние, превращаясь в интеллектуальное знание, порывает со своей сущностью и после такого единения требует деятельности совсем другого порядка, а именно деятельности разума, рефлексивного мышления? Что до меня, то я решительно принимаю второй тезис и полагаю, что идея, высказанная о какой‐либо страсти, никоим образом не есть продолжение этой страсти. Психология дает мне для этого основания. «Понимание, – делает вывод Делакруа, – есть первичная данность. Все попытки дедуцировать понимание провалились». Представляю на рассмотрение читателю следующий случай. Мадемуазель де Леспинас пишет: «Большинство женщин желают быть не столько любимыми, сколько предпочитаемыми». Я допускаю, что пылкая Юлия обрела такую проницательность, оттого что начала свой опыт страсти с ревности; но я настаиваю, что ей надо было к тому же владеть способностью совершенно другого порядка – способностью размышлять над собственной страстью и оперировать общими понятиями. Модистка, у которой нет ничего, кроме ее страданий, сможет «растягивать» их до конца своей жизни, но она никогда не обретет ничего подобного этой способности. Точно так же я допускаю[52], что если Маркс высказал глубокие идеи о патриархальной, феодальной, капиталистической системах и о переходе от одной системы к другой, то благодаря тому, что сначала проник в эти реальности через переживание их; но главное, утверждаю я, было в том, что он сумел выйти из них и применить к ним извне рефлексивную мысль, которую все называют разумом. Люди XV века, которые гораздо сильнее, чем Маркс, переживали переход от феодального строя к капиталистическому, ничего в этом переходе не увидели именно потому, что они его только переживали. Кроме того, между всеми своими системами Маркс установил отношения; однако установление отношений есть вид деятельности специфически интеллектуальной, источник которой меньше всего находится в жизненном процессе, знающем только настоящее мгновение.
Я жду, чтобы мне привели хоть один результат, достигнутый благодаря применению метода диалектического материализма, а не благодаря применению рационализма в его обычном понимании, хотя и с различными оттенками.
Если спросить, что движет теми, кто насаждает этот метод, ответ очевиден – это люди битвы, которые приходят сказать народам: «Наша деятельность заключается в истине, поскольку совпадает с историческим становлением; принимайте ее». Именно это отчетливо выражает один из них, когда восклицает: «Сознательно выбирать пути, непреложно определяющие развитие общества, – вот в чем реализм нашей политики»[53]. Отметим слово «непреложно», означающее, что историческое развитие происходит независимо от человеческой воли; позиция совершенно непостижимая, которую другие выражают, заявляя, что оно есть деяние Бога[54].
Другие формы отречения от разума, содержащиеся в доктрине диалектического материализма
Диалектический материализм отрекается от разума и тогда, когда стремится представить изменение не как последовательность неподвижных состояний, даже бесконечно близких, а как «непрерывную изменчивость», не ведающую никакого постоянства; или когда использует такие свои вывески, как чистый «динамизм», не затронутый никакой «статикой». Здесь мы опять сталкиваемся (хотя многие, должно быть, станут это отрицать) с тезисом Бергсона, который проповедует движение само по себе, противополагаемое последовательности состояний покоя, действительно совершенно отличной от него, как бы ни были близки эти состояния друг к другу. Однако такая позиция выражает недвусмысленное отречение от разума, поскольку разуму свойственно останавливать вещи, которые он рассматривает, по крайней мере пока он их рассматривает, в то время как чистое становление, по сути своей исключающее всякую самотождественность, может быть предметом мистического единения, но не рациональной деятельности[55]. Впрочем, наши «диалектики», постольку, поскольку они что‐то высказывают, говорят все же о вещах неподвижных; они говорят о патриархальной, феодальной, капиталистической, коммунистической системах как о вещах самотождественных, по крайней мере пока о них говорят. Но здесь не важно, насколько верны они своей доктрине; важно, что сама доктрина, проповедующая в качестве способа познания абсолютно аффективный образ действий, является совершенным предательством со стороны тех, кого принято называть людьми духовными.
Диалектический материализм, полагая себя в становлении как отрицании всякой реальности, тождественной себе самой в течение сколь угодно краткого времени, полагает себя, по существу, в противоречии, а значит, по сути, что бы он ни утверждал, – в области иррационального. Этот тезис со всей ясностью сформулирован в следующем заявлении Плеханова (своего рода хартии учения): если данные нам комбинации остаются теми же самыми комбинациями, мы должны их воспринимать согласно формуле «да есть да» и «нет есть нет» (А есть А и В есть В); но если они изменяются и перестают существовать как таковые, мы должны обратиться к логике противоречия; надо, чтобы мы сказали «да и нет», они существуют и не существуют (Plekhanov. Questions fondamentales du Marxisme, p. 100*. Усердно цитируется философом Абелем Ре в статье «Диалектический материализм» (A. Rey. Le Matérialisme dialectique, «Encyclopédie française», t. I).
Вся двусмысленность заключена в словах «они изменяются». Идет ли речь о непрерывном изменении, чуждом всякого постоянства? Тогда, в самом деле, принцип тождества больше не действует, напрашивается «логика противоречия» (которой еще нужно дать определение). Или же речь идет о прерывном изменении, когда некое состояние, рассматриваемое как самотождественное, в течение некоторого времени переходит в другое, рассматриваемое таким же образом и бесконечно близкое к нему? В таком случае мышление настаивает на своей связи с принципом тождества: мы не должны говорить «вещи существуют и не существуют», но только, что «вещи существуют, а потом существуют другие», которые, впрочем, никоим образом не отрицают первых. Однако это прерывное превращение есть единственное, на что обращены разум и даже язык, коль скоро сущность разума состоит в том, чтобы вводить – произвольно, но в этом произволе сама его природа – постоянство в изменение, включать, согласно одному известному высказыванию, тождество в реальность[56]. Когда другой «динамист», принадлежащий к той же партии, произносит не без презрения: «Принцип тождества имеет значение лишь как условность, необходимая… для поддержания постоянства свойств – всегда находящихся в процессе изменения – рассматриваемых эмпирических объектов»[57], – он в своем высокомерии попросту объявляет о гениальном средстве, с помощью которого дух смог создать науку, невзирая на подвижность вещей. Когда автор статьи в «Encyclopédie française» добавляет: «Да и да – формула статики, да и нет – формула динамики; однако статика только видимость», – мы можем ответить ему, что эта «видимость» есть объект науки[58], тогда как «реальность» есть объект мистического восприятия, и проповедование такого восприятия – отнюдь не то, чего ждали от философов.
Куда ведет увлеченность динамизмом
Увлеченность динамизмом приводит одержимых им к следующему невероятному тезису: действительным мышлением является только такое, которое выражает изменение. В статье «Динамический характер мышления»[59], где смешиваются мышление и его объект – мышление всегда статично, т. е. остается в своих пределах даже при динамичности его объекта[60], – цитируемый выше философ проводит различие между суждением именным, в котором связкой служит слово есть («Человек есть смертный»), и суждением глагольным, где связка заменяется «настоящим глаголом» (как будто глагол «есть» не настоящий глагол) и где «выражается действие, несводимое к качественному определению. Нечто динамичное и переходное, а не статичное и включаемое». «Суждения „Красный шар толкнул белый шар“ и „x ударил y“ не приписывают, – говорит он, – какое‐либо качество предметам, не располагают их в каком‐либо классе. Эти суждения констатируют некоторое изменение»; и только суждения такого рода, по его мнению, составляют значимое мышление, тогда как другие принадлежат мышлению «грубо упрощенному и сведенному к минимуму в смысле проникновения в реальность». Пусть читатель скажет, составляют ли значимое мышление суждения типа «Ртуть есть металл» или «Свет есть явление электромагнетизма», притом что они приписывают качество предметам, располагают предметы в классах и выражают некоторое состояние, а не действие. Но, самое главное, он осудит тех людей, задача которых состоит в преподавании серьезного мышления и которые, превратившись в настоящих вертящихся дервишей*, проповедуют, что такими приобретениями разума надо пренебречь.
Другие формы предательства интеллектуалов во имя «динамизма»
Отмечу и другие догмы, следуя которым люди, чья задача состоит в преподавании разума, откровенно проповедуют, во имя «динамизма», его отрицание.
1. Догма о «гибком разуме» (особенно дорогая для Пеги). Она отнюдь не предполагает (иначе в ней не было бы ничего оригинального) такой разум, который, высказывая утверждения, никогда не держится за них настолько, чтобы не быть в состоянии отказаться от них в пользу других, более истинных. Нет, здесь имеется в виду разум, не испорченный утверждением, постольку, поскольку утверждение есть мысль, ограниченная самой собою; разум, действующий посредством мысли, которая является одновременно и самой собою и чем‐то иным и которая, следовательно, принципиально многозначна, неопределима, неуловима (то, что один из ее горячих поборников называет «незакоснелой» (disponible) мыслью). Эта догма чрезвычайно близка к другой, развиваемой одним признанным философом. Он утверждает, что сущность разума – «беспокойство», что сомнение для ученого – состояние не временное, а сущностное[61], что описанный им, как новым методологом, «сюррационализм», когда найдет свою доктрину, «может быть соотнесен с сюрреализмом, ибо и чувство, и разум будут возвращены к своей текучести»[62]. Догма о «гибком разуме» близка и к другим – тем, что не признают «статичного взгляда»[63] науки, который «останавливается на результатах науки», и, таким образом, предполагают, что наука не должна принимать никакой постоянной позиции, даже на короткое время; тем, что вещают: «Мысль – причудливый танец, исполняемый с помощью гибких телодвижений и разнообразных фигур»[64]; тем, что, согласно их толкователю, заявляют: опыт, захватывая нас, «увлекает нас за рамки вложенного, приобретенного, возможно, выводит за пределы своей собственной плоскости, во всяком случае, за пределы покоя»[65]. Этот «гибкий» разум на самом деле вовсе не разум. Мысль, исходящая из разума, есть мысль жесткая (что не означает простая), ибо она стремится пребывать в своих собственных пределах, даже в то мгновение, когда себя выражает. Она является, как замечательно сказано, мыслью, которая «должна поддаваться опровержению»[66], т. е. мыслью, в которой представлена точка зрения, поддающаяся определению, то, что адвокаты называют «основанием спора». И, без сомнения, рациональная мысль не раз начинала с состояния духа, далекого от установившейся мысли, с некоторого неопределенного состояния[67], но тот, кто его знает, знает его как состояние, из которого надо выйти, иначе нельзя выразить ничего, относящегося к разуму. «Моя цель… – говорит Декарт, – заключалась в том, чтобы достичь уверенности и, отбросив зыбучие наносы и пески, найти твердую почву»*. Те, кто предписывают духу принять гибкость, понимаемую как свойство не временное, но органически ему присущее, тем самым призывают его окончательно отбросить разум, и если они выдают себя за защитников этой ценности, то они настоящие обманщики. За осуждение уловимого (saisissable) выступает и другой философ (Ален), когда призывает свою паству отбросить мысль, поскольку мысль – «убийца впечатлений», а впечатления, т. е. состояния сознания преимущественно ускользающие, – это нечто достойное, и их не до́лжно «убивать». Такое отношение к мысли замечательно выражено литератором Полем Валери, осуждающим «остановку на одной идее», поскольку она есть «остановка на наклонной плоскости». Валери пишет: «Дух – это бесконечный отказ быть чем бы то ни было»; «Не существует духа, который пребывал бы в согласии с самим собой; тогда он больше не был бы духом»; «Подлинная мысль длится не более мгновения, как наслаждение любовников»[68], – так он склоняет нас слиться с метафизической природой духа, никак не связанной с мышлением, суть действия которого составляет соединение осязаемого и определимого. Эту позицию можно было бы назвать дух против мысли[69]. Мне возразят, что литератор здесь не выдает себя за мыслителя; что, выказывая презрение к мысли, он отнюдь не пренебрегает своей функцией чистого литератора. Но я потому и обвиняю не его, а этих философов, многие из которых провозглашают себя рационалистами (Брюнсвик). Они настойчиво представляют его как мыслителя (разве не доверили они ему председательство на заседаниях, посвященных «Рассуждению о методе» <Декарта> и юбилею Спинозы?) и таким образом прикрывают своим авторитетом чисто мистическую позицию.
Поразительный пример философа-«рационалиста», поддерживающего мысль органически иррациональную, мы находим в лице Г. Башляра, доказывающего в «Воде и грезах», что психологический механизм, проявляющийся у Лотреамона, Тристана Тзара, Поля Элюара, Клоделя, должен в какой‐то степени служить моделью ученому. Этот рационалист (op. сit, p. 70) превозносит «материализующее видéние – грезу, которая грезит о материи» и «находится по ту сторону грезы о формах»*, так как греза о формах – нечто еще слишком статичное, слишком интеллектуальное; он хочет видеть (p. 9—10) зарождение объективного познания вещей в состоянии духа, занятого главным образом связыванием «желаний и грез», и силится «стать» рационалистом, исходя из «образного» знания – такого, какое он находит у этих литераторов. Признаться, мы не понимаем, каким образом познание воды на манер Клоделя или Поля Элюара (если взять примеры, столь дорогие его сердцу) приведет к познанию, которое заключается в мысли о том, что это вещество состоит из кислорода и водорода. Мы укажем ему на свидетельство Делакруа: «Понимание есть первичная данность. Все попытки дедуцировать понимание провалились»[70]. Впрочем, мы касаемся здесь явления, очень распространенного сегодня среди философов и даже среди ученых: они придают значение утверждениям модных литераторов, блестящим и безосновательным. Литераторы, конечно, имеют на них право, но позволительно спросить, что общего между такими утверждениями и серьезными умозрениями. Вот результат литературного снобизма, усвоение которого так называемыми мыслящими людьми никак не свидетельствует об их верности их собственному закону[71].
Чтобы опорочить мысль, тождественную себе самой – как бы мало времени это ни продолжалось – и, значит, рациональную, наши динамисты настаивают на том, что она не способна постичь вещи в их сложности, в их бесконечности, в их всеобщности (totalité). Именно это они имеют в виду, заявляя (Башляр), что осуждают «узкий» рационализм и намерены «открыть» рационализм. Стоит ли говорить, что подобная мысль вовсе не обречена на знание вещей лишь в их простоте, она вполне способна уяснить их сложность, но сохраняя при этом тождественность себе самой, согласно правилам рационального начала. Однако именно этого наши пророки решительно не приемлют. Новые «рационалисты» отвергают и не узкий рационализм совершенно так же, как узкий, только потому, что это рационализм. Что же касается бесконечности вещей, их всеобщности, – которую диалектический материализм, по его убеждению, постигает, поскольку, как он уверяет, он постигает «реальность», а реальность является «всеобщей»[72], – то рационализм в самом деле ее не отражает, по той простой причине, что по определению имеет дело с ограниченным объектом, впрочем, прекрасно зная, что ограничение, им осуществляемое, произвольно. «Наука возможна, – совершенно справедливо говорит один из исследователей рационализма, – только при условии, если из реальности как целого можно выделить относительно закрытые системы и пренебрегать всеми не входящими в них явлениями»[73]. Другой прекрасно подмечает, что «Целое есть идея метафизика, но не идея ученого»[74]. Здесь опять‐таки те, которые, как ожидалось, должны были воспитывать в людях уважение к разуму и которые притязают на это, проповедуют им мистическую позицию.
Близкое к предыдущему обвинение против устоявшейся мысли состоит в том, что она оперирует не иначе как «грубыми и тяжеловесными» утверждениями и отличается жесткостью, «лишенной нюансов», что мог бы символизировать Тэн. Как будто сильному уму не присуща как раз твердость в нюансах; как будто тонкости, которые устанавливает современная физика, например, в понятии массы: понятие количества материи, мощности импульса, коэффициента пропорциональности между силой и вызываемым ею ускорением тела, коэффициента в законе всемирного тяготения – не являются понятиями, совершенно тождественными себе самим, а ни в коем случае не «подвижными». Как будто в сфере психологической нельзя сказать того же о тонкостях Стендаля, Пруста, Джойса, даже Тэна. Но задача этих интеллектуалов – всеми способами вызвать у людей презрение к рациональной мысли.
Вот поразительный пример их желания отождествить мысль, учитывающую все нюансы, с мыслью изменчивой. «Когда г‐н Эйнштейн, – пишет один из них, – предлагает нам исправить и усложнить положения ньютонианства, слишком простые и слишком схематичные, чтобы в точности соответствовать реальности, он укрепляет у философа убеждение, что было бы действительно полезно перевести кантианскую критику из „кристаллического“ состояния в „коллоидное“»[75]. И другой пример: «Искать нюанс, пусть даже рискуя затронуть противоречие, – вот способ постичь реальность»[76]. Отметим, однако, это робкое «затронуть». Варвары, стыдящиеся своего варварства.
Наконец, наши динамисты осуждают устойчивую мысль и за то, что она будто бы воображает себя окончательной. Идеи настоящего ученого, говорит наш философ из «Encyclopédie»[77], «никогда не должны рассматриваться как окончательные или статичные» – последние два слова для него, очевидно, синонимы. Как будто статичность не может являться временным состоянием, нисколько не становясь при этом неуловимой подвижностью. В том же духе Брюнсвик сравнивает некоторых современных ученых с фотографом, который, накрыв голову черным сукном, кричит природе: «Внимание! Снимаю! Не двигаемся!» Еще поискать, где сегодня среди людей, мыслящих устойчивыми идеями, найдется такой простак. Быть собаке битой – найдется и палка.
2. Догма «вечного становления науки», тоже отнюдь не утверждающая, что наука должна развиваться через последовательность фиксированных состояний, из которых ни одно не является окончательным (чего никто не оспаривает), а что она развивается через непрерывное изменение по модели «длительности», видимо, близкой уму ученого. Именно из этой концепции исходят многие современные философы, когда связывают становление науки с тем, что она должна брать за образец саму действительность как непрерывное изменение, чтобы «вновь и вновь схватывать реальность в движении, составляющем ее сущность»[78]. Интересно, что дали бы науке Луи де Бройль или Эйнштейн, если бы их ум знал одно только непрерывное движение и отказывался принять какую‐либо устойчивую позицию? Здесь опять наши интеллектуалы превозносят позицию чистого сенсуализма, отказ от всякого разума.
3. Догма о «текучем» понятии (concept) (Бергсон, Леруа), которая означает не призыв к понятию, все более и более дифференцированному и все лучше адаптированному к сложной реальности, а отсутствие понятия, ввиду того что понятие, сколь угодно дифференцированное, всегда будет (поскольку оно есть понятие) вещью «жесткой», по существу своему неспособной соединиться с действительностью в ее движении. В этой позиции не стоит упрекать Бергсона или Леруа: они достаточно определенно выдают себя за мистиков, особенно второй. Но что сказать о «рационалисте» Брюнсвике, который с высоты кафедры возвещает внимающему его словам юношеству рационализм «без понятий»?[79]
4. Догма, согласно которой положения новой физики провоглашают крах рациональных принципов. Этот тезис отстаивали не только литераторы и широкая публика – племя, не отличающееся хладнокровием и в данном случае не имеющее никакого авторитета, – но и философы, и даже ученые, притом признанные наставники. Придется напомнить, что если новая физика значительно усовершенствовала рациональные принципы в их приложении, то отнюдь не отказалась от них в смысле их природы. О принципе причинности Брюнсвик на знаменитых заседаниях Философского общества говорил, что в его книге, посвященной физической причинности и человеческому опыту, показана возрастающая сложность применения этого принципа в современной науке, но ни в коем случае не разрушение его сущности. В отношении детерминизма Эйнштейн и де Бройль объявляют, что, хотя новая физика и заставляет их исправлять в этой идее то, что, по их мнению, носило слишком абсолютный характер, они ни в коем случае не отвергают ее по сути, поскольку она представляется им основой всякой подлинно научной позиции[80]. «Недостаточно подчеркивается, – пишет комментатор, между прочим, исполненный восхищения этой новой наукой, – тот факт, что недетерминистская физика базируется на классической логике. Никто и не думал вводить действительную неопределенность в логику, в само наше мышление. Такое предположение извратило бы все наши рассуждения»[81]. Когда Л. де Бройль утверждает, что изучение ядерной физики может однажды натолкнуться на пределы нашей способности понимания[82], он тем самым заявляет, что человек, возможно, вынужден будет отказаться от познания, основанного на рациональных принципах, а вовсе не то, что он может создать себе «новый» научный ум, игнорирующий эти принципы. Здесь мы опять обнаруживаем у наставников желание призвать юношество окутать разум тем же покровом, под которым почиют умершие боги, и предать его забвению.
5. Тезис о том, что разум не содержит в себе никакого постоянного элемента, сохраняющегося на протяжении всей истории, и под воздействием опыта должен менять не поведение свое, а свою природу; таков тезис об «эпохах интеллекта», выдвинутый Брюнсвиком, который в общем утверждает, что разум подчинен опыту и его превратностям и определяется ими. Любой мало‐мальски сведущий читатель уже наверняка внутренне возразил, что подобный тезис недоказуем; что если разум, в эпоху, когда человек в борьбе с окружающей средой закладывал основания своей природы, вышел из опыта, то он стал по отношению к нему трансцендентным в том, что касается его интерпретации; что, другими словами, опыт постольку, поскольку он есть не просто протокол, но обогащение духа, предполагает предсуществование разума. «Опыт, – было сказано (Мейерсон), – полезен человеку, только если человек размышляет»; и еще, не менее справедливо: «Совершенно невозможно познать что‐либо из опыта, не будучи организованным природой таким образом, чтобы соединять предмет с атрибутом, причину со следствием»[83]. Добавим, что если бы опыт полагал доказать несостоятельность разума, который мы проявляем, он использовал бы при этом разум и разрушал бы заодно свое доказательство. Разум, глубокомысленно говорит Ренувье, никогда не докажет посредством разума, что разум прав. Тем более он не докажет, что он ошибается. Но на что мы обращаем здесь особое внимание, так это на яростное отрицание современным интеллектуалом существования какой бы то ни было абсолютной ценности – в то время как его роль состоит именно в призыве к подобным ценностям – и на стремление представить их все колеблющимися[84], как того хочет мирской человек.
Интеллектуалы и коммунистическая идеология
Помимо принятия интеллектуалами диалектического материализма, отмечу и другие направления, следуя которым они примыкают к коммунистической идеологии и предают учение, составлявшее смысл их бытия. a) Это принятие идеологии, которая отвергает идею отвлеченной справедливости, тождественной себе самой во все времена и в любом месте, и утверждает, что все социальные системы, даже считающиеся у нас самыми несправедливыми, в свое время были справедливы, поскольку, говорят нам, справедливость – не абстрактное измышление ума[85], а понятие, имеющее смысл только по отношению к определенному экономическому состоянию и, следовательно, изменяющееся.
Вполне естественно, что люди, ставящие своей целью триумф некоторой экономической системы, желают, чтобы высочайшее достижение человеческой морали было только выражением систем такого порядка, и отказывают этому достижению в идеальности, которая могла бы обернуться против них.
Но роль интеллектуалов как раз в том, чтобы провозглашать эту идеальность и противостоять тем, кто желает видеть в человеке только его материальные потребности и эволюцию способов их удовлетворения. Признавать такой материализм – значит признавать несостоятельность органа протеста против человеческой чувственности, воплощением которого они должны были быть и который составлял насущную необходимость для цивилизации.


