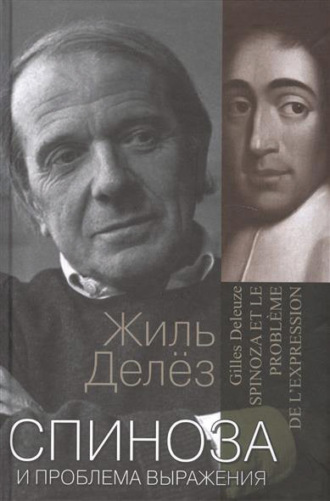
Жиль Делёз
Спиноза и проблема выражения
Глава III: Атрибуты и божественные имена
Согласно долгой традиции, божественные имена соотносятся с манифестациями Бога. И наоборот, божественные манифестации суть слова, посредством которых Бог дает о себе знать под тем или иным именем. Следовательно, это возвращает к одному и тому же вопросу о том, являются ли имена, обозначающие Бога, утверждениями или отрицаниями, являются ли манифестирующие его качества и соответствующие ему атрибуты позитивными или негативными. По-видимому, понятие [concept] выражения – одновременно, речь и манифестация, свет и звук, – обладает какой-то своей собственной логикой, благоприятствующей обеим гипотезам. Порой мы будем настаивать на позитивности, то есть на имманентности выражаемого в выражении, а порой на «негативности», то есть на трансцендентности того, что выражается, по отношению ко всем выражениям. То, что скрывает, то же и выражает, но то, что выражает, еще и скрывает. Вот почему в проблеме божественных имен или атрибутов Бога все дело в нюансах. Теология, называемая негативной, допускает, что утверждения способны обозначать Бога как причину, подчиненную правилам имманентности, кои движутся от самого близкого к самому далекому. Но Бог как субстанция или сущность может определяться только негативно, согласно правилам трансцендентности, когда мы по очереди отрицаем самые далекие имена, а затем самые близкие. И наконец, сверхсубстанциальное или сверхсущностное божество остается великолепным, будучи вдали как от отрицаний, так и от утверждений. Таким образом, негативная теология комбинирует негативный метод с утверждающим методом и намерена превзойти оба эти метода. Откуда бы мы знали, что надо отрицать Бога как сущность, если бы с самого начала не знали, что должны утверждать его как причину? Следовательно, мы можем определять негативную теологию только через ее динамизм: утверждения превосходятся в отрицаниях, а утверждения и отрицания превосходятся в таинственной эминенции.
Теология с более позитивными амбициями, как теология святого Фомы, полагается на аналогию, дабы основать новые утверждающие правила. Позитивные качества не только обозначают Бога как причину, но и субстанциально соответствуют ему при условии, что подвергаются аналогической трактовке. То, что Бог добр, не означает ни того, что Бог не зол; ни того, что он является причиной доброты. Но на самом деле: то, что мы называемся добротой в творениях, «предсуществует» в Боге, следуя более высокой модальности, согласующейся с божественной субстанцией. И еще, именно динамизм определяет новый метод. Такой динамизм, в свою очередь, поддерживает права негативного и эминентного, но постигает их в аналогии: мы восходим от предварительного отрицания к позитивному атрибуту, и этот атрибут прилагается к Богу formaliter eminenter [75]. [76]
Арабская и еврейская философии столкнулись с той же проблемой. Как имена прилагаются не только к Богу как причине, но и к сущности Бога? Нужно ли их брать негативно, отрицать их по определенным правилам? Нужно ли утверждать их согласно другим правилам? Итак, если мы встаем на точку зрения спинозизма, то обе тенденции окажутся равно ложными, ибо проблема, к коей они относятся, сама всецело ложна.
Очевидно, что трехчастное деление свойств у Спинозы воспроизводит традиционную классификацию атрибутов Бога: 1) символические наименования, формы и фигуры, знаки и ритуалы, метонимии от чувственного к божественному; 2) атрибуты действия; 3) атрибуты сущности. Возьмем обычный список божественных атрибутов: доброта, сущность, разум, жизнь, интеллект, мудрость, добродетель, блаженство, истина, вечность; или же величие, любовь, миролюбие, единство, совершенство. Спрашивается, соответствуют ли эти атрибуты сущности Бога; нужно ли их понимать как условные утверждения или как отрицания, маркирующие только удаление отрицательного. Но согласно Спинозе такие вопросы не встают, поскольку большая часть этих атрибутов суть лишь свойства. А те, что ими не являются, суть отвлеченные понятия [êtres de raison]. Они никак не выражают природу Бога – ни отрицательно, ни положительно. Бог столь же скрывается ими, сколь и выражается. Свойства – ни отрицательны, ни утвердительны; мы сказали бы, в кантианском стиле, что они неопределенны. Когда мы смешиваем божественную природу со свойствами, то неизбежно обладаем Богом, сама идея которого является неопределенной. Тогда мы колеблемся между эминентной концепцией отрицания и аналогической концепцией утверждения. Каждая, в своем динамизме, содержит в себе немного от другой. Мы создаем ложную концепцию отрицания, поскольку вводим аналогию в утверждаемое. Но утверждение, когда перестает быть однозначным или формально утверждаться в своих объектах, более таковым не является.
Один из главных тезисов Спинозы состоит в том, что природа Бога никогда не была определена, ибо она всегда смешивалась со «свойствами». Это объясняет отношение Спинозы к теологам. Но философы последовали за теологией: сам Декарт полагал, что природа Бога состоит в бесконечно совершенном. Однако, бесконечно совершенное – это только лишь модальность того, что конституирует божественную природу. Только атрибуты, в подлинном смысле слова, – мышление, протяженность – суть конститутивные элементы Бога, его конституирующие выражения, его утверждения, его позитивные и формальные основания, одним словом, его природа. Но именно здесь мы спрашиваем себя, почему эти атрибуты, не являясь скрытыми по определению [par vocation], оставались неизвестными, почему Бог был искажен, смешан со своими свойствами, придающими ему неопределенный образ. Нужно найти причину, способную объяснить то, почему предшественники Спинозы, несмотря на всю их гениальность, ограничились свойствами и не сумели обнаружить природу Бога.
Ответ Спинозы прост: им недоставало исторического, критического и внутреннего метода, способного истолковывать Писание.[77] Никто не задавался вопросом о том, каков был проект священных текстов. Они рассматривали их как Слово Божье, способ, каким Бог выражал себя. То, что тексты говорили о Боге, казалось нам всецело «выраженным», а то, о чем они не говорили, казалось невыразимым.[78] Мы никогда не задавались вопросом: касается ли религиозное откровение природы Бога? Состоит ли его цель в том, чтобы познакомить нас с этой природой? Поддается ли оно позитивным или негативным истолкованиям, кои мы собираемся к нему применить, дабы завершить определение этой природы? На самом деле, откровение касается только некоторых свойств. Оно никоим образом не ставит перед собой цель позволить нам познать божественную природу и ее атрибуты. Несомненно, данные Писания весьма разнородны: порой мы оказываемся перед особыми ритуальными наставлениями, порой перед моральными универсальными наставлениями, а порой даже перед спекулятивным наставлением – минимумом спекуляции, необходимым для морального наставления. Но никакой атрибут Бога никогда не обнаруживается. Ничего, кроме изменчивых «знаков», внешних наименований, гарантирующих некую божественную заповедь. В лучшем случае такие «свойства», как божественное существование, единство, всеведение и вездесущность, гарантирующие моральное наставление.[79] Ибо цель Писания в том, чтобы подчинить нас моделям жизни, заставить нас повиноваться и обосновать такое повиновение. Тогда было бы абсурдным полагать, будто познание может быть заменено откровением: как предположительно известная божественная природа могла бы служить практическим правилом в повседневной жизни? Но еще более абсурдно верить, что откровение сообщает нам хоть какое-то знание о природе или сущности Бога. Такой абсурд, однако, пронизывает всю теологию. И, таким образом, она компрометирует всю философию в целом. Порой мы подвергаем свойства откровения особому толкованию, кое примиряет их с разумом; порой мы даже обнаруживаем свойства разума, отличные от свойств откровения. Но так мы не покидаем теологию; мы всегда полагаемся на свойства, дабы выразить природу Бога. Мы не признаем их отличие по природе от подлинных атрибутов. Итак, неизбежно, что Бог всегда будет эминентным по отношению к своим свойствам. Как только мы наделяем их выразительной ценностью, каковой у них нет, мы наделяем божественную субстанцию невыразимой природой, коей она более не обладает.
Никогда еще столь далеко не заходило усилие, направленное на различение двух областей: откровение и выражение. Или двух разнородных отношений: отношение знака и означаемого, отношение выражения и выраженного. Знак всегда присоединяется к свойству; он всегда означает заповедь; и он обосновывает наше повиновение. Выражение всегда касается атрибута; оно выражает некую сущность, то есть некую природу в неопределенной форме [à l’infinitif]; оно делает ее известной для нас. Так что «Слово Божье» обладает двумя крайне разными смыслами: выразительное Слово, не нуждающееся ни в словах, ни в знаках, а только в сущности Бога и в разуме человека. Запечатленное, императивное Слово, действующее посредством знака и заповеди: оно не является выразительным, но будоражит наше воображение и внушает нам необходимую покорность.[80] Могли бы мы, по крайней мере, сказать, что заповеди «выражают» волю Бога? Это предполагало бы еще и волю как принадлежащую природе Бога, допускало бы отвлеченное понятие [êtres de raison], внешнее определение для божественного атрибута. Любое смешивание двух областей разрушительно. Каждый раз, когда мы превращаем знак в выражение, мы везде видим тайны, и прежде всего, в том числе, в самом Писании. Таковы Евреи, думающие, что все безусловно выражает Бога.[81]Тогда мы получаем мистическую концепцию выражения: последнее, по-видимому, сколь скрывает, столь и обнаруживает то, что оно выражает. Загадки, притчи, символы, аналогии, метонимии призваны, таким образом, нарушать рациональный и позитивный порядок чистого выражения. Верно, что Писание действительно является Словом Божьим, но как слово заповеди: императив, он ничего не выражает, ибо не сообщает ни о каком божественном атрибуте.
Анализ Спинозы не ограничивается тем, что отмечает несводимость этих областей друг к другу. Он предполагает развертывание знаков, предстающее как генезис некой иллюзии. Действительно, не будет ошибкой сказать, что каждая вещь выражает Бога. Порядок всей природы в целом является выразительным. Но стоит плохо понять естественный закон, чтобы ухватывать его как императив или заповедь. Когда Спиноза иллюстрирует различные роды познания с помощью знаменитого примера пропорциональных чисел, он показывает что, на самом низком уровне, мы не понимаем правило пропорциональности: тогда мы удерживаем знак, говорящий нам, какую операцию мы должны проделать над этими числами. Даже технические правила обретают моральный аспект, когда мы игнорируем их смысл и удерживаем только знак. В еще большей мере это касается законов Природы. Бог раскрывает Адаму, что вкушение яблока будет иметь для него роковые последствия; но Адам, неспособный ухватить конститутивные отношения между вещами, воображает такой закон природы как моральный закон, запрещающий ему есть плод, а самого Бога как суверена, наказывающего его за поедание плода.[82] Знак – дело пророков; но именно пророки обладают сильным воображением и слабым разумом.[83] Выражения Бога никогда не попадают в воображение; последнее схватывает все под аспектом знака и заповеди.
Бог не выражает себя ни с помощью знаков, ни в свойствах. Когда мы читаем в Исходе, что Бог явился Аврааму, Исааку и Якову, но как Бог Шаддай[84] (достаточный для нужд каждого) и не как Иегова, то мы не должны делать из этого вывод ни о тайне тетраграмматона, ни о сверхэминентности Бога, взятого в его абсолютной природе. Мы должны, скорее, сделать вывод, что откровение не имеет в качестве цели выражать такую природу или сущность.[85] Вместо этого, естественное знание подразумевает сущность Бога; и подразумевает ее потому, что оно является знанием атрибутов, действительно выражающих такую сущность. Бог выражается в своих атрибутах, атрибуты выражаются в зависимых от них модусах: именно так порядок природы манифестирует Бога. Единственные выразительные имена Бога, единственные божественные выражения – это, следовательно, атрибуты: общие формы, высказывающиеся о субстанции и модусах. Если мы знаем только два [атрибута], то именно потому, что сами конституированы модусом протяженности и модусом мышления. По крайней мере, эти атрибуты не предполагают никакого откровения; они отсылают к естественному свету. Мы познаем их так, как они существуют в Боге, в их бытии, общем и для субстанции, и для модусов. Спиноза настаивает на этом пункте, ссылаясь на текст святого Павла, из которого он делает почти манифест однозначности: «Ведь тайны бога усматриваются разумом от создания мира в творениях его…»[86] Кажется, что однозначность атрибутов смешивается с их выразительностью: атрибуты, неразложимым образом, выразительны и однозначны.
Атрибуты не служат отрицанию, более того мы не отрицаем их причастность к сущности. Более того они не утверждаются относительно Бога по аналогии. Утверждение по аналогии стоит не больше, чем отрицание с помощью эминенции (в первом случае еще имеется эминенция, а во втором – уже аналогия). Верно, говорит Спиноза, что один атрибут отрицает другой.[87] Но в каком смысле? «Если бы кто-нибудь стал утверждать, что протяжение ограничивается не протяжением, но мышлением, то разве он не скажет то же самое, что протяжение бесконечно не в абсолютном смысле, но только как протяжение?»[88] Отрицание, здесь, не подразумевает, следовательно, ни какого-либо противопоставления, ни лишения. Протяженность как таковая не страдает ни от какого-то несовершенства, ни от ограничения, кое зависело бы от ее природы; также напрасно представлять Бога, который «эминентно» обладал бы протяженностью.[89] И наоборот, в каком смысле атрибут утверждается относительно субстанции? Спиноза часто настаивает на этом пункте: субстанции или атрибуты формально существуют в Природе. Итак, среди многочисленных смыслов слова «формальное», мы должны удержать тот, посредством которого оно противопоставляется «эминентному» или «аналогичному». Субстанция никогда не должна мыслиться, как эминентно постигающая свои атрибуты; в свою очередь, атрибуты не должны мыслиться, как эминентно содержащие сущности модуса. Атрибуты формально утверждаются относительно субстанции. Атрибуты формально высказываются о субстанции, чью сущность они конституируют, и о модусах, чью сущность они содержат. Спиноза не перестает напоминать об утвердительном характере атрибутов, кои определяют субстанцию, а также о необходимости для любого хорошего определения самому быть утвердительным.[90] Атрибуты суть утверждения. Но утверждение, в своей сущности, всегда формально, актуально и однозначно: именно в том смысле оно выразительно.
Философия Спинозы – это философия чистого утверждения. Утверждение – спекулятивный принцип, от которого зависит вся Этика. И тут мы можем обнаружить, как Спиноза встречается с одной картезианской идеей, дабы поставить ее себе на службу. Ибо реальное различие стремится наделить понятие [concept] утверждения подлинной логикой. Действительно, реальное различие, как его использовал Декарт, ставит нас на путь глубокого открытия: различенные термины сохраняли всю свою соотносительную позитивность вместо того, чтобы определяться через противостояние друг другу. Non opposita sed diversa[91] – такова была формула новой логики.[92] Реальное различие, казалось, объявляло о новой концепции негативного, без противопоставления и лишения, а также о новой концепции утверждения, без эминенции и без аналогии. Итак, если этот путь не приводит к картезианству, то именно по той причине, какую мы увидели ранее: Декарт все еще наделяет реальное различие числовой значимостью, функцией субстанциального деления в природе и в вещах. Он понимает любое качество как позитивное, любую реальность как совершенство; но не все является качественно определенной и различенной реальностью, не все является совершенством в природе некой вещи. Именно о Декарте, среди прочих, думает Спиноза, когда пишет: «Сказать, что природа вещи требует этого [т. е. ограничения] и что поэтому она не может быть другой – значит ничего но сказать; ибо природа вещи не может ничего требовать, если вещь не существует».[93] У Декарта имеются ограничения, коих «требует» вещь в силу своей природы, имеются идеи, кои обладают столь малой реальностью, что мы почти могли бы сказать, будто они приходят из небытия, имеются природы, которым чего-то не хватает. Тут вновь вводится все то, что предполагала изгнать логика реального различия: лишение, эминенция. Мы увидим, что эминенция, аналогия, даже некоторая двусмысленность остаются почти спонтанными категориями картезианской мысли. Напротив, чтобы высвободить крайние следствия реального различия, постигаемого как логики утверждения, надо было возвыситься до идеи одной единственной субстанции, обладающей всеми реально различными атрибутами. Прежде всего, надо было избежать любого смешивания – не только атрибутов и модусов, но также атрибутов и свойств.
Атрибуты – утверждения Бога, logoi или подлинные божественные имена. Вернемся к тексту, где Спиноза обращается к примеру Израиля, также именуемому как патриарх, но названному Иаковом за то, что схватил за пятку своего брата.[94] По контексту, речь идет о том, чтобы проиллюстрировать мысленное различие, как оно существует между субстанцией и атрибутом: Израиль назван Яковом (Supplantator [Дающий подножку – лат.]) по отношению к своему брату, также как «плоскость» называется «белой» по отношению к смотрящему на нее человеку, также как субстанция называется той или иной отношению к разуму, который «приписывает» ее той или иной сущности. Конечно же, такой пассаж способствовал интеллектуальной или даже идеалистической интерпретации атрибутов. Но философ в определенных обстоятельствах всегда вынужден упрощать свою мысль или формулировать ее частично. Спиноза не преминет подчеркнуть двусмысленность приводимых им примеров. На самом деле атрибут не является просто способом видения или понимания; его отношение к разуму крайне фундаментально, но истолковывается иначе. И именно потому, что атрибуты сами являются выражениями, они с необходимостью отсылают к разуму как к единственной инстанции, воспринимающей выраженное. Именно потому, что атрибуты развертывают субстанцию, они, сами по себе, соотносятся с разумом, в котором воспроизводятся все развертывания или сами собой объективно «развертываются». Тогда проблема начинает уточняться: атрибуты суть выражения, но как разные выражения сами могут обозначать одну и ту же вещь? Как разные имена сами могут обладать одним и тем же обозначаемым? «Вы, тем не менее, желаете, чтобы я объяснил вам на примере…, каким образом одна и та же вещь может обозначаться (insigniri) двумя разными именами».
Роль разума – это роль, отсылающая его к логике выражения. Такая логика – результат долгой традиции, стоической и средневековой. Мы различаем в выражении (например, в предложении) то, что оно выражает, и то, что оно обозначает.[95] Выраженное – это что-то вроде смысла, не существующего вне выражения; следовательно, оно отсылает к разуму, который схватывает его объективно, то есть идеально. Но оно высказывается о вещи, а не о выражении самом по себе; разум соотносит его с обозначаемым объектом как сущность этого объекта. Тогда мы понимаем, что имена могут различаться по их смыслам, но что эти разные смыслы относятся к одному и тому же обозначаемому объекту, чью сущность они конституируют. В спинозистской концепции атрибутов есть нечто вроде перестановки [transposition] этой теории смыслов. Каждый атрибут является отличимым именем или выражением; то, что он выражает, – это что-то вроде его смысла; но если верно, что выраженное не существует вне атрибута, то оно, тем не менее, относится к субстанции как к объекту, обозначенному всем атрибутами; таким образом, все выраженные смыслы формируют «выразимое [l’exprimable]», или сущность субстанции. И последняя, так сказать, будет, в свою очередь, выражаться в атрибутах.
Верно, что уподобляя субстанцию объекту, обозначаемому с помощью различных имен, мы не разрешаем существенную проблему – проблему различия между этими именами. Более того, трудность нарастает в той мере, в какой эти имена являются однозначными и позитивными, а значит, формально применяются к тому, что они обозначают: их соответствующий смысл, похоже, вводит в единство обозначенного необходимо актуальное множество. С аналогической точки зрения это не так: имена прилагаются к Богу по аналогии, их смысл «предсуществует» в нем эминентным образом, который обеспечивает их непостижимое, невыразимое единство. Но что делать, если божественные имена имеют один и тот же смысл – применимы ли они к Богу или подразумеваемы в творениях, – то есть во всех своих употреблениях, так что, фактически, их различие не может более основываться на сотворенных вещах, но должно обосновываться в том Боге, какого они обозначают? Известно, что уже Дунс Скот в Средние века поставил эту проблему и дал ее глубокое решение. Дунс Скот, несомненно, является тем, кто дальше всего продвинул предприятие позитивной теологии. Он разоблачил, одновременно, негативную эминенцию неоплатонизма и псевдо-утверждение томистов. Он противопоставил им однозначность Бытия: бытие высказывается в одном и том же смысле обо всем, что есть – бесконечном или конченном, – хотя и не в одной и той же «модальности». Но как раз бытие не меняет свою природу при изменении модальности, то есть когда его понятие [concept] предицируется бесконечному бытию и конечным существам (следовательно, уже у Скота однозначность не ведет ни к какому смешению сущностей).[96] И однозначность бытия сама ведет к однозначности божественных атрибутов: понятие [concept] атрибута, способное возвышаться до бесконечного, само является общим в Боге и в творениях при условии, что бытие взято в своем формальном основании или в свой чтойности [quiddité], ибо «бесконечное никак не отменяет формального основания того, к чему оно добавляется».[97]Но, высказываясь формально и позитивно о Боге, как бесконечные атрибуты или божественные имена могли бы не вводить в Бога множественность, соответствующую их формальным основаниям, их различенным чтойностям?
Именно к этой проблеме Скот применяет одно из своих наиболее оригинальных понятий [concept], предназначенное дополнить понятие [concept] однозначности: идею формального различия.[98] Последнее касается восприятия различенных чтойностей, принадлежащих, тем не менее, одному и тому же предмету. Оно явно отсылает к действию разума. Но разум здесь не довольствуется тем, что выражает одну и ту же реальность под двумя аспектами, способными существовать отдельно в других предметах, выражает одно и то же на разных уровнях абстракции или выражает что-либо по аналогии с другими реальностями. Он объективно схватывает актуально различенные формы, но те, что, как таковые, компонуют один и тот же предмет. Различие между «животным» и «разумным» мыслимо, как между homo и humanitas [человек и человечность – лат.]; надо чтобы вещь сама уже была «структурирована согласно мыслимому разнообразию рода и вида».[99] Формальное различие является действительно реальным различием, поскольку оно выражает различные пласты реальностей, формирующие или конституирующие некое существо. В этом смысле оно называется formalis a parte rei или actualis ex natura rei[100]. Но оно является минимумом реального различия, поскольку две реально различные чтойности координируются и компонуют некое уникальное существо.[101] Реальное и, тем не менее, не числовое, таков статус формального различия.[102] Еще мы должны признать что – в конченном [существе] – две чтойности (как животная, так и разумная) сообщаются только благодаря третьему термину, коему они тождественны. Но он не тот же самый в бесконечном [существе]. Два атрибута, возведенные в бесконечность, все еще будут формально различимыми, оставаясь онтологически всецело тождественными. Как говорит Э.Жильсон, «поскольку бесконечность является модальностью бытия (а не атрибутом), она может быть общей для чтойностно [quidditativement] несводимых друг к другу формальных оснований и придавать им тождественность в бытии, не отменяя их различия в формальном».[103] Два атрибута Бога, например Справедливость и Благость, являются, таким образом, божественными именами, обозначающими абсолютно единого Бога, абсолютно одного, при этом все еще означая разные чтойности. Здесь есть как бы два порядка – порядок формального основания [raison formelle] и порядок бытия, множественность одного вполне примирима с простотой другого.
Именно такой статус [двух порядков – пер.] находит явного противника в лице Суареса. Суарес не понимает, почему формальное различие не может сводиться либо к различию в разуме [distinction de raison], либо к модальному различию.[104] Это различие говорит либо слишком много, либо слишком мало: слишком много для различия в разуме, слишком мало для реального различия. Декарт, порой, придерживается тоже же мнения.[105] Мы всегда находим у Декарта то же отказ признать реальное различие между чем-то, что не пребывает в разных предметах, то есть тем, что не сопровождается каким-либо разделением в бытии или в числовом различии. Итак, у Спинозы все иначе: в его концепции реального нечислового различия мы без труда обнаруживаем формальное различие Скота. Более того, благодаря Спинозе формальное различие перестает быть минимумом реального различия, оно становится всем реальным различием целиком, придавая последнему исключительный статус.
1) У Спинозы атрибуты реально различны или постигаются так реально различные. Действительно, они обладают нередуцируемыми формальными основаниями [raisons formelles]; каждый атрибут выражает бесконечную сущность как свое формальное основание или свою чтойность. Следовательно, атрибуты различаются «чтойностно», формально: это действительно субстанции – в чисто качественном смысле. 2) Каждый приписывает свою сущность субстанции как чему-то иному. Иначе говоря, формальному различию между атрибутами не соответствует никакое деление в бытии. Субстанция не является родом, атрибуты не являются специфическими различиями: таким образом, не существует субстанций того же самого вида, что и атрибуты, не существует субстанции, которая была бы той же самой вещью (res), что и каждый атрибут (formalitas); 3) Следовательно, такое «нечто иное» является одним и тем же для всех атрибутов. Более того: оно – то же самое, что и все атрибуты. Это последнее определение нисколько не противоречит предыдущему. Все формально различные атрибуты относятся благодаря разуму к онтологически одной субстанции. Но разум только и делает, что объективно воспроизводит природу форм, кои он и изучает. Все формальные сущности формируют сущность абсолютно одной субстанции. Все качественно определенные субстанции формируют, с точки зрения количества, одну единственную субстанцию. Так что сами атрибуты обладают, одновременно, тождеством в бытии и различием в формальном; онтологически единые, формально разные – таков статус атрибутов.
Несмотря на свои намеки относительно «вороха перипатетических различений», Спиноза восстанавливает формальное различие, даже наделяя его рангом, какого оно не имело у Скота. Именно формальное различие дает абсолютно связное понятие [concept] единства субстанции и множественности атрибутов, именно оно дает реальному различию новую логику. Тогда мы спросим, почему Спиноза никогда не использует этот термин, но говорит только о реальном различии. Дело в том, что формальное различие и есть реальное различие. Далее, Спиноза предпочитал использовать термин, который Декарт своим употреблением в некотором роде теологически нейтрализовал; термин «реальное различие» допускал самые смелые нововведения, не воскрешая старые полемики, каковые Спиноза, несомненно, считал бесполезными и даже вредными. Мы не считаем, что так называемое картезианство Спинозы идет дальше: вся его теория различий является глубоко антикартезианской.
Предлагая скотистский, а не картезианский, образ Спинозы, мы рискуем впасть в некоторые преувеличения. Фактически, мы хотим сказать, что скотистские теории были, конечно же, известны Спинозе, и что они участвовали, вместе с другими темами, в формировании его пантеизма.[106] Теперь же наиболее интересен именно тот способ, каким Спиноза использует и возобновляет понятия [notions] формального различия и однозначности. Действительно, что же Дунс Скот называл «атрибутом»? Справедливость, благость, мудрость и т. д., короче, свойства. Несомненно, он признавал, что божественная сущность может постигаться без этих атрибутов; но он определял сущность Бога через внутренние совершенства, разум и волю. Скот был «теологом» и, в силу этого, все еще имел дело со свойствами и отвлеченными понятиями [êtres de raison]. Вот почему у него формальное различие не обладало всем своим рангом, оказываясь всегда под влиянием отвлеченных понятий [êtres de raison], таких как роды и виды, таких как способности [facultés] души, или же под влиянием свойств, таких как мнимые атрибуты Бога. И еще, однозначность у Скота, как кажется, скомпрометирована заботой о том, чтобы избегать пантеизма. Ибо теологическая, так сказать «креационистская», перспектива вынуждала понимать однозначное Бытие как нейтрализованный, безразличный концепт. Безразличный к конченному и бесконечному, к сингулярному и универсальному, к совершенному и несовершенному, к тварному и нетварному.[107] У Спинозы, напротив, однозначное Бытие совершенно определено в своем понятии [concept] как то, что высказывается в одном и том же смысле о субстанции, коя существует в себе, и о модусах, которые существуют в чем-то ином. Со Спинозой однозначность становится объектом чистого утверждения. Одна и та же вещь, formaliter, конституирует сущность субстанции и содержит сущности модуса. Таким образом, именно идея имманентной причины, у Спинозы, принимает эстафету у однозначности, освобождая последнюю от безразличия и нейтралитета, где ее удерживала теория божественного творения. И именно в имманентности однозначность найдет свою собственно спинозистскую формулировку: Бог называется причиной всех вещей в том же смысле (eo sensu), в каком он называется причиной самого себя.





