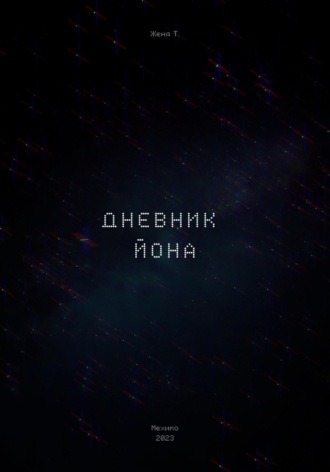
Женя Т.
Дневник Йона
Да и вообще. Я в комфортной капсуле с потрясающим видом, с запасом еды еще на несколько месяцев точно, у меня осталась (хоть и редеющая) стопка непрочитанных или давно уже читанных (то есть, нуждающихся в перечитывании) книг. Теплая кровать, место – aka храм – для чего-то сродни медитаций или молитв, сад, куда я отдаю свою энергию и любовь… Наверное, о такой жизни/смерти мечтают многие тридеане и даже многие астронавты. Особенно, те, кто прямо сейчас сгорает на фронтах бессмысленной войны, например, или умирает от голода в бедных странах, или еще что-то. Нет, не такой уж я и несчастный. Слабый, скорее.
Я до невозможности только скучаю по тебе, Сольвейг. Я бы хотел уходить с тобой, или на твоих руках. Прости меня за то, что я решился уйти без тебя. Мы ведь оба понимали, что это может быть концом.
Но я буду держаться, буду писать сюда, буду вспоминать и благодарить, буду растить свой сад и читать книги, отмечать в них карандашом классные места, загибать уголки, пририсовать улыбающиеся рожицы. Я обречен – но я обречен на смерть в таком прекрасном месте, где я могу воссоздать тебя, практически живую, в своей голове и услышать твой родной голос с грассирующей «р», снова утереть твои горькие слезы, пересчитать веснушки на твоем лице, понежиться в твоих объятьях. И вот – ты будто бы возвращаешься к мне.
Поднимаю взгляд от бумаги и смотрю в сторону иллюминатора. Там будто бы стоишь ты – хрупкая, маленькая, с копной пушистых русых волос с рыжим отливом. Улыбаешься по-доброму, как никто другой не умеет… Сольвейг, ты здесь?
В памяти всплывает наше первое с тобой… Общее искреннее? Общее наболевшее? То самое, когда закончился мор, когда ты вернулась на радары. Не только на мои радары, конечно, – на всеобщие! Ты выпустила громкий путеводитель по Трианбахе – об этой стране мы в Субинэ даже мечтать не смели. И отправилась туда сама – о тебе говорили, тебя знали, тобой восхищались. И я, читая новости о твоих путешествиях, улыбался и радовался. Когда ты прилетела домой, в Субинэ, мы встретились с тобой случайно (зачеркнуть – случайного не бывает) в баре. Проговорили час или два, а может быть больше… и твое тепло, добро, твоя энергия вселили в меня доверие к завтра.
Ты была в коротком алом платье и спортивной обуви. Твои глаза блестели от вина. Я еле заставил себя уйти первым, совершенно точно осознавая: ты будоражишь во мне больше, чем можно. Больше, чем предполагалось. Больше, чем я мог себе позволить со своей работой, с твоим суженым…
Мысли о тебе начали сводить меня с ума. Ты – ни с того ни с сего – начала появляться в моих снах, стихах. моем дневнике, в моих мечтах. Я прокручивал в своей голове миллионы, миллиарды сценариев, где мы вместе, где я тону с утра и ночью в твоих ключицах, где ты лежишь в развороченном одеяле, где я несу нам двоим утренний кофе, где ты читаешь мне черновик своей новой статьи, где мы пьем вино, сидя на балконе, а я курю, а ты на моих коленях – замотанная и счастливая. Это стало походить на помутнение, и я понимал, что то же происходит с тобой.
спустя три часа того же дня
Я ненавижу, ненавижу себя – как я мог решиться оставить тебя хоть на секунду?! Да даже если бы меня заставляли (ну да, отказа бы они не приняли), я должен был бы бороться за то, чтобы быть рядом! Какой черт надел на меня эти гребаные розовые очки, какой демон надоумил меня, что я смогу добраться до какой-то призрачной планеты, даже не зная наверняка, существует ли она? Чем я, черт возьми, пожертвовал ради собственного высокомерия?!
И это расплата за мою надменность – я живу один, я умру один, я рву на себе волосы, клоками из отросшей жесткой бороды и из головы, что идет кругом, трещит и болит который день несносно, я исцарапал себе все руки и шею в попытках немного прийти в себя, я ору на долбанные стены этой долбанной капсулы!
Выпусти меня, тварь! Верни меня туда, откуда забрала, я хочу одного, хочу в ее руки, разве я многого прошу для себя?!
Ненавижу себя, ненавижу тебя, ненавижу космос и каждую эту чертовую звезду, туманность, пылинку, меня тошнит от их молчаливого и насмешливого величия… Красота, говорите вы, сидящие в тепле и покое, в компании мужа или жены, двух детей и собак, с пиццей или попкорном на коленях, у экранов, смотрящие глупое кино про космос? Красота? Хахахахахаха… Отнюдь! Это смерть, тишина, одиночество!..
день 178 последней трети 3987 года
Я не вставал с кровати уже шесть дней. А зачем? У меня нет сил. Я не хочу ничего и не вижу в этом ничего нового, страшного, фатального или особенного.
Иллюминатор не чищен уже больше недели, борода не расчесана, волосы стали забывать, что за субстанция сия – шампунь, изо рта несет так, будто я съел помойку, хотя на самом деле, я, конечно, все шесть дней ничего практически не ел. Тошнит. От каждого глотка воды тянет блевать, поэтому пить я тоже стал пореже. Книги валяются раскрытыми, недочитанными.
Отчего я сегодня схватился за дневник – для меня загадка. Вероятно, зафиксировать это прелюбопытнейшее состояние. Все вокруг – стены капсулы, полки, стул, стол, блоки и экран, иллюминатор и так дальше – выглядит потешно: пластиковые, плоские, раскрашенные в самые примитивные цвета, что за нерадивый художник их выдумал.
Вижу плохо, перед глазами какая-то дымка, все время болит голова, болит голова… Проваливаюсь в сон, болит голо…
день 19… какой-то последней трети 3987 года
Два состояния Йона: плачу или залипаю. А. Еще иногда прихожу в себя. Заглядываю в душ даже. Как будто лучше. Как будто что-то типа депрессивного эпизода, случившегося на той неделе, отступило. Я снова начинаю осознавать, что все, что происходит со мной не так уж страшно. Одно беспокоит – все это будто происходит… Ха-ха… Не со мной. Я вижу себя со стороны. Вот я встаю, куда-то иду, что-то делаю, что-то говорю, мысли бухают громче слов. Пространство капсулы, которое видит этот я (но не Я), какое-то надуманное, размытое. Я настоящий куда-то отлетел, наблюдаю и пытаюсь отыскать трещину в этом странном существовании без самого себя, но Меня в меня не пускают.
Кто-то занял мое место, кто-то бородатый, худой, с заплывшими глазами. Какой неприятный человек, какого хрена ты делаешь на моем месте?.. Впрочем, я все еще осознаю, что это прекрасное неведомое чудо – я сам. Никакой шизофрении, нет, и то хорошо. Просто все размыто, чувств не осталось – кроме тоски. Глухой, томительной тоски, которая вдавливает меня все глубже и глубже в темную пучину. Я тону…
день 213 последней трети 3987 года
Вчера я опустошил все запасы вина и съел почти всю еду, которая оставалась в капсуле. Первый раз за последние несколько месяцев этого бессмысленного блуждания я почувствовал радость: сначала предвкушая вкус необъятного количества изысканных блюд – ведь уже даже пресные сухпайки, консервы и субстраты кажутся мне нежнейшими мильфеями, а потом – запихивая и запихивая в себя одно за другим, утрамбовывая внутри себя все, что видел на полках, заполняя пустоту собственного существования едой… На секунду поймал, конечно, мысль о том, что же я буду есть в следующие дни, если сейчас прикончу все, а потом ей же сам усмехнулся – какая, к черту, разница, ты все равно скоро сдохнешь, и это будет благом для тебя, спасением. Ты уже опротивел себе так, что даже сам себя не воспринимаешь, не узнаешь в зеркале, тебя уже настолько достала вся так называемая «реальность», которую ты выстроил, что твои глаза ее плохо видят.
Жри, жри! Переполняйся…
И когда я больше уже не мог, я начал плакать. Катался по полу, рыдал, звал тебя. родная Сольвейг… Хотя нет, не возвращайся, я не хочу чтобы ты видела меня в таком состоянии. Я допил бутылку вина и меня вырвало – и рвало еще полночи своей гадкой, противной безнадежностью, вонючим, едким отчаянием…
Сегодня я проснулся, как ни странно, с чистой головой, хотя немного тяжелой, и – даже с легким чувством здорового, сосущего под ложечкой голода. Слегка позавтракав уцелевшими остатками вчерашнего пира, я огляделся. Фу, какая вонь, сколько пыли и мусора… Да и сам я не то, чтобы ахти, совсем перестал о себе хоть немного заботиться.
Я включил погромче музыку, какое-то инди, которое Сольвейг собрала мне с собой во внушительный плейлист, и начал генуборку. Отмыл иллюминатор, все поверхности, вычистил блоки, надраил полы, починил накренившийся стул, выстирал постельное белье, пропитанное потом будто бы лихорадочного больного, и одежду.
Потом принялся за себя: сбрил бороду, вымыл волосы и тело, даже нанес какой-то вкуснопахущий крем, накинул чистую белую футболку и белые спортивные штаны. В моем доме, в моей капсуле стоял невесомый аромат чистоты, все вокруг было приятно – и я себе сам. Я даже на секундочку вернулся в себя и увидел все вокруг чуть более четко, чем обычно. Только на миг, правда, – потом самозванец с ужасным зрением снова все у меня отобрал, отодвинув меня самого в закрома моего разума. Но мне на него было уже плевать.
Сейчас мы сидим в «храме» у иллюминатора и смотрим вперед. Что-то блестит вдалеке – что-то смутно похожее на рукав галактики или горизонт событий… Значит, вот он, какой конец. Мне не страшно. На это мне тоже плевать.
Ведь я уже принял решение – оно болталось передо мной еще с того первого дня, когда я потерял связь с экипажем. Или еще раньше.
Я всегда с тайным желанием и почтением заглядывал в темные воды Флодэн. С того первого дня, когда впервые шел по гранитному борту набережной. С того дня, когда останавливался посреди моста и мысленно нырял вниз.
Это горячая надежда однажды просто взять и уйти теплилась в моем сердце каждый день даже тогда, когда я встретил Сольвейг, но с ней я перестал видеть это как выход, потому что не мог так с ней поступить. Потому что полюбил ее всем своим существом и порой думал, что остаюсь только ради нее. Хотя, конечно, была любимая работа и мечты, но они никогда так сильно не занимали меня. Кстати, я виртуозно скрыл все это от психологической комиссии, когда поступал на станцию. Впрочем, наверное, я никогда, по сути дела, и не был достаточно серьезно настроен.
Я не помню, когда мысль о том, что хочу, могу и должен однажды уйти пришла ко мне впервые, но точно знаю, что еще где-то в самом нежном детстве. Жизнь в Субинэ давала особые основания и веские причины на правомерность и хирургически точную обоснованность такого рода решений. Самые тяжелые в этом отношении моменты шли внахлест с отстранением от самого себя, вот как последние месяцы в космосе, – оно в эти моменты заигрывало с моим сознанием совсем хитро и виртуозно: я не ощущал реальности, но чувствовал боль, невыносимость, отчаянье – и видел воду. И не видел препятствий. И уже двигался по направлению к, а потом что-то внутри достукивалось до меня, и глаза открывались на миг – всего на один короткий миг жизни, погруженности, момента. Всего один миг, которого оказывалось достаточно, чтобы остановить мой безумный – в самом деле, безумный – шаг.
Я пытался покончить с собой четыре раза, два из них всерьез, и еще миллиард раз занимался сэлфхармом – одно время даже продумано и систематически.
Каждый из всех этих разов всегда был глупой попыткой, разумеется, всегда оставлял множество путей для спасения, отступления в любой момент. Первый раз я не раздумывая бахнул внушительную дозу какого-то (я вот даже не знаю какого до сих пор) нейролептика. Второй раз пытался повеситься в душе на ремне – со страху напился соджу в одну рожу (прошу прощения за неуместные рифмы, но сложно сдержаться), решился, но так и не понял, как наутро оказался-таки, хоть и одетый, но в постели. Были тридцать таблеток какого-то нерецептурного обезболивающего в один присест, были порезы на венах (шрамы скрыл татуировкой), были просто разодранные своими же ногтями руки, шея, грудь, были наказания за плохие мысли пряжкой от ремня по худой спине. Все это приносило невесомость, облегчение, улыбку, расслабляло мышцы, отрезвляло мысли, господи, как хорошо. Кто-то скажет, что я просто больной извращенец и мазохист, как меня взяли на борт, но во-первых, в прошлом чужаков не так-то интересно копаться, а во-вторых, отчего-то я убежден: больше будет тех, кто, если бы смог прочесть это, поджал бы губы и состроил до боли уж понимающую гримасу. Такие мы все поломанные.
В этот раз – в последний – я открою шлюз и не коснусь скафандра. Симпатичный суицид, который, впрочем, никто не оценит. Я не могу больше выносить себя самого, что забрал меня у меня. Я не могу больше выносить эти стены. Я оказался слабым. Прости меня, Сольвейг… Ты так долго прятала меня от этого, но тебя сейчас здесь нет.
день 215 последней трети 3987 года
Ой, ну я вчера, конечно, мог бы ух каким решительным показаться – даже сам себе. Закончить – и дело с концом. Но как это забавно: меня останавливает… Нет, даже не Сольвейг или еще какие-то близкие люди, которым я могу сделать больно своим самоубийством. Меня останавливает какой-то странный смутный интерес, любопытство… А вдруг моя капсула-таки доберется до Земли? А вдруг я потом смогу даже вернуться на Триде? Вдруг прямо сейчас – или завтра – экипаж-таки внезапно выйдет на связь? У меня внутри есть предчувствие, надчувствование, что что-то еще может свершиться – не случиться, а именно что свершиться. То есть что-то особенное, внушительное, масштабное. Что-то сильное и великое, ради чего стоит жить.
…Сольвейг! Я снова к тебе. Я возвращаюсь к тебе каждый миг. Меня без теюя даже здесь – нет. Помнишь ли тот вечер? Прошел дождь, промозглая тьма накрыла наш каменный остров, я вбежал вверх по ступенькам к тебе. Ты играла мне на гитаре, мы пили вермут, и руки дрожали. Ты лежала на полу, я сидел рядом и слегка коснулся твоих пальцев. Я не должен был оставаться, я не мог, я… ты целовала меня – нет, это нельзя назвать поцелуем, это был взрыв, извержение, это был перелом или сразу открытая черепно-мозговая с кровоизлиянием в самое сердце. Это был ливень, ураган, это был сход лавины – он отрезал нам путь назад.
В следующий раз, когда я приехал к тебе, мы сгорели дотла, окончательно. Я никогда не испытывал ничего подобного – перед глазами моими то и дело мелькал весь мир, звездное небо с детально прорисованными галактиками, самые глубокие впадины океана с мельчайшим планктоном… и это все была ты. Я любил тебя уже тогда, когда снаружи и внутри согревал тебя своим хмурым теплом, а ты – ты исчезала утром. Мы договорились видеться лишь ночью, за бокалом-другим и никому ни слова – нам нельзя, нас лучше бы не, но иначе, друг без друга, тоже невозможно. Тишину ночей то и дело взрывал твой блаженный крик, а потом ты пропадала опять, а я, угорелый, искал тебя повсюду, пытался выплюнуть, вырезать, вытащить из себя, забыть, но уже утонул в тебе.
Я перестал понимать тебя: видел, что тебе хорошо со мной, что так блаженно ты еще будто бы никому не улыбалась, но заканчивалась ночь, и та ты исчезала – ты холодела в бездушный мрамор. И однажды так и не вернулась из него, ничего мне не сказав. Где ты? Что ты? Ты разбила меня, оставила, выбросила, как ненужного пса на обочину декабря, но я собрал себя заново, горячими щипцами вытащил-таки тебя-занозу, и вдохнул. Начал заново – точнее, снова отдался службе.




