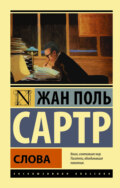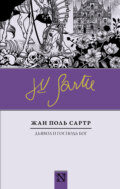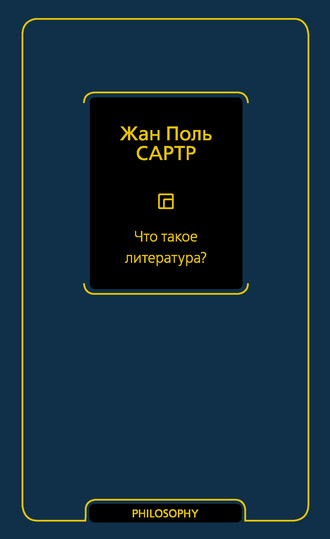
Жан-Поль Сартр
Что такое литература?
Неважно, является ли эстетический объект произведением «реалистического» (или слывущего таковым) искусства или же искусства «формалистического». В любом случае, естественные отношения перевернуты: дерево на переднем плане картины Сезанна[89] поначалу выглядит как результат взаимного сцепления причин. Но причинная связь здесь иллюзорна; пока мы будем смотреть на картину, она, несомненно, будет существовать на правах особого мнения, но она приемлема и с точки зрения подспудной конечности: если это дерево стоит здесь, то только потому, что остальное пространство картины требовало, чтобы на переднем плане поместили именно такую форму и такие цвета. Следовательно, пронизывая феноменальную[90] причинность насквозь наш взгляд добирается до конечности как подспудной структуры объекта, а по другую сторону конечности он добирается до человеческой свободы как своего источника и изначальной основы. Реальность изображения у Вермеера[91] столь совершенна, что поначалу напрашивается мысль, будто он фотографичен. Но если мы станем разглядывать великолепие его материала, нежное розоватое свечение кирпичных стенок, густую синеву ветки жимолости, глянцевый сумрак его прихожих, оранжевое сияние лиц, гладких, словно камни кропильницы, мы вдруг почувствуем по тому удовольствию, которое испытываем, что конечность заключена не столько в формах или цветах, сколько в материальности его воображения; смыслом существования всех этих форм является здесь сама субстанция и нерасчлененная магма вещей; с подобным реализмом мы, возможно, ближе всего подходим к сотворению мира, ибо в самой пассивности материала мы неожиданно наталкиваемся на непостижимую свободу человека.
Итак, произведение отнюдь не заключено в рамки того, что нарисовано, высечено из камня или рассказано; подобно тому, как материальные предметы воспринимают только на фоне окружающего мира, явленные искусством предметы видны только на фоне всей вселенной. На заднем плане приключений Фабрицио – Италия 1820 года, Австрия и Франция, а также звездное небо, в котором ищет ответы на свои вопросы аббат Бланес[92], и в конечном итоге там весь земной шар. Если художник показывает нам поле или вазу с цветами, его картины представляют собой окна, распахнутые в мир; эта красная дорога, полегающая между хлебами, уводит нас далеко за пределы тех мест, что изобразил Ван Гог[93], – к другим полям пшеницы, под другие облака – потом она выведет нас к реке, впадающей в море; и так будет продолжаться до бесконечности, до другого края света и до тех земных глубин, что поддерживают само существование полей и конечности. И созидательный акт, используя немногие объекты, которые он производит или воспроизводит, преследует цель получить в итоге всеобъемлющее воспроизведение мира. Любая картина, любая книга – воспроизводство всеобщности бытия, и любое из таких творений преподносит эту всеобщность свободе зрителя. Ибо конечная цель искусства именно в этом: воспроизводить мир, даруя возможность увидеть его таким, каков он есть, но при этом так, как если бы источником его была человеческая свобода. Но поскольку все, созданное автором, обретает объективную реальность только в глазах зрителя, именно с подключением зрения – особенно в процессе чтения – это воспроизводство закрепляется. И теперь мы уже в состоянии исчерпывающим образом ответить на вопрос, который недавно поставили: писатель склоняется к тому, чтобы взывать к свободе других людей, дабы они, взаимной сопряженностью своих притязаний, возвратили всеобщность бытия человеку и вновь сомкнули человечество со вселенной.
Если хотим пойти дальше, нам необходимо помнить, что писатель, как и все другие творцы, настроен передать своим читателям некую эмоцию, которую принято называть эстетическим удовольствием, но которую я, со своей стороны, охотнее назвал бы эстетическим наслаждением[94]. Появление эстетического наслаждения – знак того, что произведение состоялось, и нам следует исследовать данную эмоцию в свете предыдущих рассуждений. В этом наслаждении отказано творцу, он – его создатель, и не более того; само же подобное наслаждение неотделимо от эстетических представлений зрителя, или, в рассматриваемом нами случае, от эстетических представлений читателя. Это сложное чувство, а составляющие его элементы взаимообусловлены и нераздельны. И чувство это неотделимо прежде всего от признания трансцендентной и абсолютной цели, которая на какое-то время перекрывает стремительный поток целей-способов и способов-целей, преследующих пользу (2); иными словами, оно неотделимо от призыва или (что вновь приводит нас к тому же самому) от ценности. И обусловленное ситуацией осознание, которое я черпаю из этой ценности, обязательно сопровождается отнюдь не связанным с ситуацией осознанием моей свободы, поскольку именно посредством трансцендентного требования свобода обнаруживает себя перед самой собой. Когда свобода вдруг сама себя узнает – это наслаждение, но такая структура неэкзистенциального сознания предполагает привлечение иной структуры: поскольку на самом деле чтение – это творчество, моя свобода проявляется не только как чистая независимость, но и как созидательная деятельность, иначе говоря, она не ограничивается тем, что диктует себе собственный закон, а еще и постигает свое качество учредителя объекта. На этом уровне являет себя собственно эстетический феномен, другими словами, творческая деятельность, при которой создаваемый объект предстает перед своим творцом в качестве объекта. Это единственный случай, когда творец имеет в своем пользовании создаваемый им объект. И слово «пользование», примененное для обозначения ситуативного осознания прочитанного произведения, ясно указывает, что перед нами значимая составная часть эстетического наслаждения. Такое ситуативное пользование сопровождается неситуативным осознанием собственной значимости для объекта, который также воспринимается как значимый; я назову такую грань эстетического осознания чувством своей защищенности; именно это ощущение накладывает отпечаток неземного покоя даже на самые горячие эстетические чувства, а порождает его полная гармония между субъективностью и объективностью. Поскольку, с другой стороны, эстетический объект – это, по сути, мир, – такой, каким он видится сквозь призму воображаемых миров, – эстетическому наслаждению сопутствует ситуативное осознание того, что мир – это ценность, и в то же время он (другими словами) – добровольная трудовая повинность, вмененная человеческой свободе. Именно такое осознание я и назову эстетическим изменением жизненного проекта[95], ибо обычно мир предстает перед нами как горизонт нашей ситуации, как бесконечное расстояние, отделяющее нас от самих себя, как синтетическая общность всего имеющегося в сознании, как нерасчленимое единство преград и орудий – и никогда как требование, обращенное к нашей свободе. Таким образом, эстетическое наслаждение происходит на уровне осознания, позволяющем мне взяться за воспроизведение того, что в полном смысле слова есть «не-я», и глубоко усвоить это, поскольку я превращаю имеющееся в моем сознании в императив и создаю из него ценность: мир – это мой труд, иначе говоря, значимая и добровольная принятая на себя моей свободой обязанность в том как раз и состоит, чтобы принудить к существованию в произвольном движении единственный и абсолютный объект, каким являет себя вселенная. И в-третьих, предыдущие составляющие элементы подразумевают договор между свободами людей, ибо, с одной стороны, чтение – это доверительное и настоятельное признание свободы писателя, а с другой стороны, из-за того, что само эстетическое удовольствие переживается в виде ценности, оно заключает в себе абсолютное требование по отношению к другому; требование, чтобы все люди, в той мере, в какой они свободны, испытывали одинаковое удовольствие, читая одно и то же произведение. Таким образом, все человечество предстает перед нами в его высочайшей свободе, и оно поддерживает существование мира, который является одновременно и его собственным миром, и миром, «внешним» для него. В эстетическом наслаждении ситуативное осознание – это образопорождающее осознание мира в его всеобщности: как бытия и в то же время как долженствования бытия, осознание этого мира тем более безраздельно принадлежащим нам, чем более он нам чужд. Неситуативное осознание реально охватывает гармоничное всеединство человеческих свобод в той мере, в какой оно создает объект всеобщего доверия и востребованности.
Следовательно, писать – это значит одновременно обнаруживать мир и предлагать его в качестве труда, вмененного благородству читателя. Писать – это значит воспользоваться сознанием другого, чтобы заставить признать себя значимым для всеобщности бытия; это значит захотеть пережить такую значимость при посредничестве других людей; но с другой стороны, поскольку реальный мир проявляет себя только в действии, поскольку можно чувствовать, что ты в нем, только устремляясь за его пределы с целью его изменить, вселенной романиста не хватило бы плотности, если бы, ради ее же преодоления, эту вселенную не поверяли движением[96]. Не раз констатировали, что в любом повествовании предмету добавляет осязаемой плотности не количество и не пространность посвященных ему описаний, а сложность его связей с разными героями; он будет выглядеть тем более реальным, чем чаще герои станут им пользоваться: то брать его, то класть; короче, чем чаще герои будут сталкиваться с ним на пути к достижению собственных целей. Так обстоит дело и с вымышленным миром романа, другими словами, со всей совокупностью его предметов и людей: для достижения этим миром наибольшей плотности надо, чтобы обнаружение-творчество, с помощью которого читатель этот мир открывает, стало также воображаемым соучастием в действии; иначе говоря, чем больше мы будем склонны изменить мир, тем он будет живее. Заблуждением реализма была вера в то, что реальность открывается в созерцании, и по этой причине можно создать беспристрастное описание. Как такое возможно, если само восприятие пристрастно, ибо именование в нем уже представляет собой изменение предмета? И каким образом писатель, который хочет стать значимым для вселенной, мог бы желать отвечать за все беззакония, которые только есть в этой вселенной? Однако необходимо, чтобы он за них ответил, а потому, если он и согласен стать творцом беззаконий, то только в вихре движения, обрекающего их на уничтожение. И если по ходу чтения я, читатель, созидаю и наделяю существованием несправедливый мир, не в моей власти сделать так, чтобы не нести за него ответственности. Да и весь талант автора направлен на то, чтобы вынудить меня создавать то, что он обнаруживает, а стало быть, меня компроментировать. Я разделяю с ним ответственность за эту вселенную. И именно потому, что такая вселенная держится соединенным усилием двух наших свобод, и еще потому, что автор попытался при моем посредничестве воссоединить ее с человеком, необходимо, чтобы она и впрямь возникла в нем самом, в самых сокровенных недрах его души, и чтобы она была насквозь пронизана и до конца поддержана свободой, которая поставила своей целью свободу людей, и, если эта вселенная на самом деле и не является вместилищем целей, каковой ей следует быть, то надо, по крайней мере, чтобы она была этапом на пути туда, одним словом, нужно, чтобы она была становлением и чтобы ее всегда рассматривали и представляли себе не как давящую на нас неподъемную глыбу, а с точки зрения возможностей ее преодоления на пути к вместилищу целей; нужно, чтобы произведение имело благородный вид, сколь бы злобным и отчаявшимся ни было описанное в нем человечество. Разумеется, недопустимо, чтобы благородство заявляло о себе с помощью назиданий или добродетельных героев: ему не следует так же быть нарочитым, и воистину справедливо утверждение, что из хороших чувств хорошей книги не создашь[97]. Однако благородство должно служить основой книги, тем материалом, из которого выкроены и люди, и вещи: какой бы ни была тема, что-то вроде эфирной легкости должно возникать повсюду и напоминать, что произведение – это вовсе не природная данность, а некое требование и некий дар. И если мне дарят этот мир со всеми его беззакониями, то не для того, чтобы я холодно созерцал их, а для того, чтобы я вдохнул в них жизнь своим возмущением, чтобы я эти беззакония обнаружил и создал их вместе с присущим им неправедным естеством, то бишь естеством правонарушения-накануне-его-ликвидации. Таким образом, вселенная писателя обнаруживается во всей своей глубине только через осмысление, восхищение и возмущение читателя; и благородная любовь – это клятва что-то поддержать, благородное возмущение – клятва что-то изменить, а благородное восхищение – клятва кому-то подражать; хотя литература – это одно, а мораль – нечто совсем иное, в основе эстетического императива мы всегда различаем моральный императив. Поскольку тот, кто пишет, одним тем фактом, что он берет на себя труд писать, признает свободу своих читателей, а тот, кто читает, одним тем фактом, что он открывает книгу, признает свободу писателя, произведение искусства, с какой бы стороны на него ни взглянуть, – это акт доверия в области человеческой свободы. И поскольку читатели, подобно самому автору, признают эту свободу лишь для того, чтобы потребовать ее проявления, произведение можно определить как воображаемый показ мира в той его ипостаси, в какой ему потребна человеческая свобода. Отсюда следует прежде всего то, что литературы очернительства просто нет, ибо столь бы мрачными ни были краски, которыми изображают мир, его изображают для того, чтобы свободные люди испытали перед его лицом свою свободу. И отсюда следует, что есть только плохие и хорошие романы. Плохой роман – это роман, нацеленный на то, чтобы понравиться и польстить, в то время как хороший – это одновременно и требование доверия, и акт доверия. И еще нельзя забывать, что облик мира, все более насыщаемого свободой, – это единственный в своем роде облик, доступный сочинителю для представления его тем свободам, согласия с которыми он хочет достичь. Было бы абсурдно, если бы этот вызванный писателем к жизни благородный порыв использовали для того, чтобы освятить беззаконие, и чтобы читатель наслаждался своей свободой, читая произведение, которое одобряет или принимает угнетение человека человеком, или хотя бы просто воздерживается от осуждения гнета. Можно представить себе хороший роман, написанный американским чернокожим, даже если ненависть к белым в нем бросается в глаза, потому что посредством этой ненависти он отстаивает свободу своей расы. И поскольку он предлагает мне занять позицию благородства, мне не пришлось бы страдать из-за моей принадлежности к расе поработителей в те самые минуты, когда я ощущаю себя чистой свободой. Следовательно, именно против белой расы и против меня самого в той мере, в какой я себя к ней отношу, я требую от всех других свобод, чтобы они настаивали на освобождении цветных. Но и на миг нельзя допустить, будто можно написать хороший роман во славу антисемитизма (3). Ибо в то самое мгновение, когда я ощущаю, что моя свобода неразрывно связана со свободой остальных людей, невозможно заставить меня употребить эту свободу на то, чтобы одобрить порабощение одних людей другими. Таким образом, у писателя как у свободного человека, обращающегося к свободным людям, кем бы он при этом ни был: эссеистом, памфлетистом, сатириком или романистом, и независимо от того, говорит ли он исключительно о страстях отдельных людей или клеймит общественную систему, есть только одна тема: свобода.
И отныне любая попытка поработить читателей – угроза самому таланту литератора. Если взять, к примеру, кузнеца, то такая реальность, как фашизм, затронет его частную жизнь, но необязательно отразится на работе, а вот у писателя фашизм затронет и то, и другое, причем на работе он отразится сильнее, чем на жизни. Мне встречались сочинители, которые до войны всеми помыслами были обращены к фашизму, но едва только нацисты стали осыпать их почестями, как их поразило творческое бесплодие. Я вспоминаю прежде всего Дриё Ларошеля[98]: он заблуждался, но заблуждался искренно, и он это доказал. Он дал согласие руководить профашистским журналом. В первые месяцы он отчитывал и журил своих соотечественников, читал им нотации. Никто ему не отвечал, поскольку больше не было необходимой для ответа свободы. Он выплескивал свою досаду по этому поводу, он теперь совсем не чувствовал своих читателей. Тогда он повел себе еще более напористо, но не получил ни единого подтверждения того, что его поняли. Не было никаких признаков ненависти или гнева: ничего подобного. Он выглядел потерянным, измученным нарастающим беспокойством, с горечью плакался перед немцами; раньше его статьи были полны высокомерия, теперь они стали язвительными; настало время, когда он начал бить себя в грудь: ни одного отклика ни от кого, кроме продажных журналистов, которых он презирал. Он подал в отставку, затем передумал уходить, заговорил снова, но кругом было глухо. Наконец он умолк, растеряв дар речи из-за молчания других людей. Он настаивал на их порабощении, но в своем безрассудстве воображал его добровольным и где-то даже свободным; порабощение пришло; человек в нем возликовал, но зато писатель не сумел этого вынести. В то же самое время другие, которых, к счастью, было гораздо больше, понимали, что свобода писательской деятельности предполагает гражданскую свободу. Для рабов никто не пишет. Искусство прозы солидарно с единственным режимом, при котором проза сохраняет смысл: с демократией. Когда демократия под угрозой, то и проза в опасности, и отнюдь не всегда ее можно защитить одним только пером. Иногда наступает такое время, когда приходится отложить перо в сторону и когда писателю необходимо взяться за оружие. Так что какие бы взгляды вы ни исповедовали и какими бы путями вы ни пришли в литературу, она ввергает вас в битву; писать – это значит определенным образом желать свободы; если вы начали писать, то вы, вольно или невольно, ангажированы.
«Ангажированы на службу чему?» – спросят меня. Проще всего было бы ответить: «Защищать свободу». Но идет ли речь о том, что сделаться хранителем идеальных ценностей, каким был клирик Бенда до своего предательства[99], или же хранителем конкретной и каждодневной свободы, которую нужно защищать, принимая участие в политической и социальной борьбе? Этот вопрос связан с другим, на первый взгляд очень простым вопросом, но он, однако, из числа тех, какие не задают себе никогда: «Для кого люди пишут?»
Примечания
(1) Также, хотя и в разной степени, обстоит дело с позицией зрителя по отношению к другим произведениям искусства (картинам, симфониям, скульптурам и т. д.).
(2) В практической жизни любое средство может быть избрано в качестве цели (и оно становится ею в ту самую минуту, когда этой цели начнут добиваться) и любая цель находит средства для достижения другой цели.
(3) Это замечание кое-кого смутило. А потому я настаиваю на том, чтобы мне назвали хоть один хороший роман, созданный с явным намерением содействовать угнетению; хоть один, который был бы написан ради выступления против евреев, против негров, против рабочих или против колониальных народов. «Если таковых нет, – возразят мне, – то это совсем не значит, что их никогда не напишут». Однако в таком случае вы сами признаете, что выступаете в качестве абстрактного теоретика. Вы, но никак не я. Ибо вы во имя вашей абстрактной концепции искусства утверждаете возможность того, что произойдет нечто, чего в действительности пока не было, тогда как я ограничиваюсь тем, что предлагаю объяснение общепризнанному факту.
III
Для кого люди пишут?
На первый взгляд это не вызывает сомнений: пишут для универсального читателя; мы и в самом деле убедились, что писательский спрос в принципе распространяется на всех людей. Но в предшествующих описаниях рассмотрены идеальные случаи. На самом деле писателю известно, что он говорит для свобод, увязнувших в зыбучих песках, засыпанных ими и мало к чему пригодных; да и его собственная свобода не вполне безупречна и нуждается в «чистках»; он пишет и для того еще, чтобы ее очистить. Чревата опасностью легкость поминания скороговоркой вечных ценностей: вечные ценности уже до предела истощены. И сама свобода, если рассматривать ее sub specie aeternitatis[100], выглядит засохшей ветвью: ибо она неизбывно нова, но новизною моря; она – не что иное, как движение, которым беспрестанно вырываются и освобождаются. Даром свобода не дается; ее необходимо отстоять, освобождаясь от страстей, от расовой принадлежности, от класса и от государства, а потом уже с ее помощью покорять других людей. И в этом случае важнее всего специфический вид того препятствия, которое надо одолеть, и того сопротивления, которое надо победить, ведь именно этот вид и придает свободе, при любых обстоятельствах, ее окончательный облик. Если писатель решил, следуя пожеланиям Бенда, молоть чепуху, он может красивыми периодами вещать о той вечной свободе, к которой хором взывают и национал-социализм, и сталинский коммунизм, и капиталистические демократии. Он никого не смутит и ни к кому лично не обратится, ведь ему заранее предоставлено все, о чем он просит. Но все это – лишь абстрактная мечта, хочет он того или нет, и даже если писатель домогается вечной посмертной славы, он все равно говорит со своими современниками, со своими соотечественниками, со своими братьями по крови или по классу. Реже, чем необходимо, отмечали, что продукт умственного труда – это по своей природе намек. Даже если в намерения автора входит представить предмет исчерпывающим образом, вопрос никогда не стоит о том, чтобы он рассказал все, и сколько бы он ни говорил, ему известно все равно гораздо больше, чем он может сказать. Суть в том, что язык – это эллипсис[101]. Если я хочу сообщить соседу, что в окно влетела оса, мне ни к чему для этого вести долгую беседу… «Осторожно!» или «там!» – хватает одного слова, одного жеста – и, как только он осу видит, дело сделано. Но в случае, если бы долгоиграющая пластинка без всяких пояснений воспроизводила нам ежедневные разговоры какой-нибудь супружеской пары из Провэна или Ангулема, мы бы ничего в них не поняли, поскольку отсутствовал бы контекст, иными словами общие воспоминания и общие переживания, положение супругов и род их занятий, короче, мир в том виде, каким, по убеждению каждого из собеседников, он выглядит в глазах другого. Это справедливо и в отношении чтения: люди одной эпохи и одной страны, которые пережили одни и те же события, имеют общие вкусы, ставят перед собой одни и те же вопросы (или, напротив, избегают их ставить), эти люди «одним миром мазаны» и вообще их «черт одной веревочкой связал». Вот почему о многом нет нужды распространяться: есть своего рода ключевые слова. Если я стану рассказывать об оккупации американской публике, то потребуется много объяснений и предуведомлений; я потрачу страниц двадцать на то, чтобы развеять предубеждения, домыслы и легенды; потом надо будет, чтобы я беспрестанно обосновывал свою позицию, чтобы находил в истории Соединенных Штатов такие образы и символы, которые позволят понять нашу историю; мне необходимо будет все время держать в уме и учитывать разницу между нашим старческим пессимизмом и их ребяческим оптимизмом. Если я пишу на эту же тему для французов, то мы люди свои: довольно будет, к примеру, и таких слов: «концерт военного немецкого оркестра в беседке городского сада». Здесь есть все: и холодная весна, и провинциальный парк, и бритоголовые мужчины, дующие в трубы, и прохожие, которые слепы и глухи к происходящему и только ускоряют шаг, пробегая мимо, и два-три нахохлившихся слушателя под деревьями, и сам этот кошачий концерт, такой ненужный для Франции, гибнущей в небесах[102], и наш стыд, и наша тоска, и наш гнев, но и наша гордость тоже. Таким образом, читатель, к которому я обращаюсь, – это отнюдь не Микромегас, не Простодушный[103] и уж тем более не Бог-Отец. Ему не свойственно неведение простака-дикаря: ему не надо объяснять все с самого начала, он – не абстрактный разум, но и не «табула раза»[104]. Нет у него и всеведения ангелов или Предвечного Отца. Я раскрываю перед ним некие грани вселенной и использую то, что он знает, чтобы попробовать научить его тому, что ему неведомо. Читатель зависает где-то между полным неведением и всезнанием, он обладает известным багажом, который время от времени меняется и которого довольно для проявления его историчности[105]. В сущности, речь не идет ни о быстропреходящем состоянии сознания, ни о вневременном утверждении свободы, и уж тем более нет и речи о том, чтобы читатель воспарил над историей: он в нее вовлечен, то есть ею ангажирован. И писатели тоже принадлежат истории; именно по этой причине некоторые из них хотят от нее увильнуть, перескакивая в вечность. Среди людей, погруженных в одну и ту же историю, которые на равных вносят свой вклад в ее созидание, устанавливается, при посредничестве книг, историческая связь. Письмо и чтение – две стороны одного и того же исторического факта, и свобода, к которой писатель нас призывает, не есть чистое и отвлеченное понимание того, что ты свободен. Она, собственно говоря, вообще не есть, ее завоевывают в исторической ситуации[106]; каждая книга предлагает конкретное освобождение, начинаемое с ликвидации какого-нибудь отдельного ущемления свободы. Вот почему любая из них предъявляет, в завуалированном виде, иск общественным институтам, устоям, определенным формам притеснения и конфликтов, мудрости и безумию сегодняшнего дня, стойким пристрастиям и мимолетным капризам, предрассудкам и последним победам здравого смысла; предъявляет иск и тому, что известно всем, и тому, что никому не известно, и особой манере рассуждать, введенной в моду наука и используемой теперь во всех областях, иск надеждам и страхам, а также рутинному обыкновению чувствовать, воображать и даже воспринимать, наконец, иск нравам и общепринятым ценностям, иск всему миру, где они живут бок о бок: автор, и читатель. Именно этот досконально знакомый мир автор наделяет жизнью и наполняет своей свободой, исходя из него толкователь должен произвести свое конкретное освобождение: в нем и ущемление свободы, и ситуация, и история; именно его я должен заимствовать и воспринять, его я должен изменить или сохранить для себя и других. Ибо если свобода непосредственно проявляет себя в отрицании, то нам известно, что речь идет не о теоретической возможности сказать «нет», а о конкретном отрицании, которое содержит в себе самом то, что оно отрицает, и которому сопутствует это отрицаемое. А поскольку свобода автора и свобода читателя ищут друг друга и через весь мир устремляются навстречу друг другу, с тем же успехом можно сказать, что к принятию решения читателя склоняет сделанный автором выбор определенного облика мира, и наоборот, выбирая себе читателя, писатель тем самым принимает решение относительно темы своего произведения. Таким образом, все продукты умственного труда в себе самих содержат образ читателя, для которого они предназначены. По «Яствам земным» я мог бы составить портрет Натанаэля[107]: ущемление свободы, от которого нас приглашают освободиться, я усматриваю в семье, в той недвижимости, какой герой владеет или будет владеть по наследству, в приземленно утилитарном жизненном проекте[108], в затверженных моральных догмах и в заскорузлом теизме; я вижу, что он обладает культурой и досугом, ибо было бы глупо предлагать Меналька[109], к примеру, чернорабочему, безработному или американскому негру, я знаю, что никакая внешняя угроза его не тяготит: ни голод, ни война, ни классовое или расовое угнетение; единственная грозящая ему опасность – это стать жертвой собственной среды; он, следовательно, принадлежит к европеоидной расе, он – ариец, состоятельный человек, наследник богатой буржуазной семьи; он живет в относительно стабильное и спокойное время, когда идеология правящего класса едва только начинает клониться к упадку. В точности таким был и Даниэль де Фонтанен, которого Роже Мартен дю Гар позднее представил нам восторженным почитателем Андре Жида[110].
Если взять более близкий к нам пример, то нельзя не поразиться тому, что «Молчание моря»[111] – произведение, созданное борцом Сопротивления самого первого призыва и с очевидной для нас целью, было враждебно встречено в эмигрантских кругах Нью-Йорка, Лондона и даже Алжира: доходило до того, что его автора обвиняли в коллаборационизме. А все потому, что Веркор не принимал в расчет ту публику. В оккупированной зоне, напротив, никто не усомнился ни в намерениях автора, ни в действенности его книги: он писал для нас. По правде сказать, я не думаю, будто можно защитить Веркора, заявляя, что его немец изображен правдиво, что им правдиво изображены старик-француз и молодая француженка. Кёстлер[112] позднее написал по этому поводу несколько прекрасных страниц: в безмолвии этих двух французов нет психологического правдоподобия; в нем есть даже привкус анахронизма, поскольку оно напоминает упорное молчание патриотически настроенных крестьян Мопассана в годы другой оккупации – другой оккупации, с ее другими надеждами, другими горестями и другими нравами. Что же касается немецкого офицера, то его портрет не лишен жизненных черт, хотя само собой разумеется, что Веркор в то время отвергал какие бы то ни было контакты с оккупационной армией и сделал его «симпатичным», всего лишь соединив воедино гипотетически возможные черты характера. И разве, во имя правды, нам не следует предпочесть созданные им образы тем, что изо дня в день плодила пропаганда англичан? Для француза метрополии в 1941 году роман Веркора был в высшей степени действенным. Когда вас разделяет с неприятелем завеса огня, вы обязаны всех врагов считать воплощением зла: любая война – это манихеизм[113]. А потому вполне понятно, что английские газеты не теряли время на то, чтобы отличить в немецкой армии доброе зерно от плевел. Зато побежденные и порабощенные народы, смешиваясь с победителями, заново учатся – и в силу привыкания, и благодаря искусной пропаганде – смотреть на завоевателей как на людей. То есть смотреть на них как на хороших или плохих людей, как на людей хороших и в то же время плохих. Произведение, которое показало бы им в 41 году немецких солдат в образе людоедов, вызвало бы смех и не достигло бы поставленной цели. Но с конца 42 года «Молчание моря» утратило свою действенность, потому что война возобновилась на нашей территории, и тогда по одну стороны оказались подпольная агитация, диверсии, крушения поездов и покушения, а другую – комендантский час, угон населения, тюремные застенки, пытки и расстрелы заложников. Невидимая завеса огня вновь пролегла между немцами и французами; мы больше не желали знать, кем же были те немцы, которые вырывали глаза и ногти у наших друзей: пособниками или жертвами нацизма; теперь оказалось недостаточно хранить в их присутствии презрительное молчание, да они бы его и не потерпели: на этом этапе войны следовало быть либо с ними, либо против них; на фоне бомбардировок и массовых убийств, сожженных деревень и угона населения в Германию роман Веркора выглядел как идиллия: он утратил собственную публику. Публикой для него был человек 41 года: униженный поражением и вместе с тем удивленный напускной обходительностью оккупанта, искренне желающий мира, запуганный призраком большевизма, сбитый с толку речами Петена[114]. Этому человеку было бесполезно представлять немцев кровожадными животными, напротив, надо было согласиться с ним в том, что и они могут быть вежливыми и даже симпатичными, но поскольку он с удивлением открыл для себя, что большинство из них – «такие же люди, как мы», надо было его заново убедить в том, что примирение с ними все равно невозможно, что солдаты чужой страны тем более несчастны и бессильны, чем симпатичнее они выглядят, и что необходимо бороться против губительного режима и губительной идеологии, даже если люди, выступающие их носителями, не кажутся нам плохими. Из-за того, что в конечном итоге приходилось обращаться к инертной людской массе, а также из-за того, что было еще довольно мало крупных организованных групп, да и те, что были, проявляли сугубую осторожность при подборе новых членов, единственными формами протеста, которые мыслимо было потребовать от населения, оставалось молчание, презрение и вынужденная покорность, выставляющая напоказ свой принудительный характер. Таким образом, роман Веркора сам определяет круг своих читателей; определяя его, он определяет и самого себя: он призывал противодействовать влиянию встречи в Монтуаре[115] на умы французской буржуазии 41 года. Через полтора года после поражения роман был злободневным, хлестким и действенным. Через полвека он уже никого не увлечет. Далекие от всех этих событий люди прочтут его как милую и немного скучную историю о войне 1939 года. Говорят, что бананы особенно вкусны, когда они только что сорваны: продукты умственного труда также следует потреблять безотлагательно.