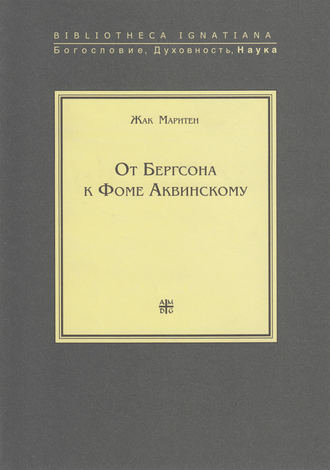
Жак Маритен
От Бергсона к Фоме Аквинскому
Очерки, собранные в этой книге, по большей части не опубликованы на французском языке. «Метафизика Бергсона» и «Учение Бергсона о морали», в первой редакции написанные в Буэнос-Айресе в 1936 г., составляют главы III и IV книги «Ransoming the Time» (New York, Scribner’s, 1941). В первом из этих очерков мы воспроизвели или использовали многие страницы из нашей книги «Философия Бергсона» («La Philosophie Bergsonienne», 1913), в частности из Предисловия ко второму изданию (1930). «Современные аспекты религиозной мысли» – несколько дополненный французский текст лекции, прочитанной на праздновании двухсотлетия Пенсильванского университета 16 сентября 1940 г. Английский текст лекции был опубликован под заглавием «Contem-porary Renewals in Religious Thought» в «Religion and the Modern World», University of Pennsylvania Bicentennial Conference, Philadelphia, 1941. Очерк «Бессмертие человеческого Я» был написан на английском языке (Garvin Lectures, Lancaster, 1941) и вышел под названием «The Immortality of Man» в «The Review of Politics», October, 1941. Французский перевод выполнен автором. «Томистское понятие о свободе» – лекция, прочитанная в Чикагском университете 21 октября 1938 г. и опубликованная в «Revue Thomiste», juillet-septembre 1939. Очерк «Спонтанность и независимость» опубликован в «Mediaeval Studies» (сборник трудов Торонтского папского института исследований Средневековья), vol. IV, 1942. «Конфликт сущности и существования в картезианской философии» – это текст доклада на IX Международном философском конгрессе, посвященном Декарту (Париж, 1–6 августа 1937 г.). Очерк «Св. Фома Аквинский и проблема зла» впервые вышел на английском языке: «Saint Thomas and the Problem of Evil». – The Aquinas Lecture, 1942, Marquette University Press, Milwaukee, 1942. «Гуманизм св. Фомы Аквинского» – доклад, прочитанный на годичном заседании Mediaeval Academy of America, состоявшемся в Принстонском университете 25 апреля 1941 г. Доклад был опубликован на французском языке в «Mediaeval Studies» Торонтского папского института исследований Средневековья, vol. III, 1941, на английском языке – в «Twentieth Century Philosophy», ed. by Dagobert R. Runes (New York, Philosophical Library, 1942).
От Бергсона к Фоме Аквинскому
Само название этой главы уже ставит проблему и в известном смысле нуждается в оправдании. Не будь Бергсон истинным метафизиком, разве был бы он великим философом и великим духовным новатором? Однако признал ли бы сам Бергсон, что он создал метафизическое учение, предложил современникам некую метафизику? Думаю, нет. Тому есть две причины: это и удивительная скромность Бергсона – конечно же, понимающего свое значение, – и обостренное, щепетильное, чрезвычайно ясное сознание (в двояком смысле – как психологическое самосознание индивидуума и как педантичное научное сознание), с каким он строго держался результатов, которых считал себя вправе ожидать от своего эмпирического метода – метода, связанного с самым умным и самым утонченным эмпиризмом, но в конечном счете радикально эмпирического.
Не успев начать, мы подошли к важнейшему пункту обсуждения. Все содержится во всем, особенно для философии витально-органического и в определенном смысле биологического типа (что, попутно заметим, сближает Бергсона с Аристотелем): невозможно коснуться одной проблемы, не затронув всех остальных. Мы, однако, надеемся, что сможем вести наше обсуждение так, чтобы не говорить обо всем сразу, а располагать свои соображения в надлежащей последовательности.
В те дни, когда я вместе с Пеги и Жоржем Сорелем восторженно слушал лекции Бергсона в Коллеж де Франс, мы ждали от учителя откровения новой метафизики, ведь именно это, казалось, он сам обещал нам.
Но дело обстояло иначе. Бергсон не преподал нам ожидаемой метафизики, у него никогда не было такого намерения. И для многих из нас это стало горьким разочарованием; нам казалось, что обещание, на которое мы полагались, не было исполнено.
Теперь, по прошествии времени, когда я снова думаю об этом, все представляется в другом свете: когда Бергсон своим словом восстанавливал в умах, подавленных агностицизмом или материализмом, ценность и достоинство метафизики, когда он с незабываемой интонацией говорил, обращаясь к людям, воспитанным в духе самого гнетущего псевдонаучного релятивизма: «Мы пребываем, мы действуем, мы живем в абсолютном»[1], достаточно было того, что таким образом он пробуждал в слушателях влечение к метафизике, метафизический эрос: это уже было великое дело. И, быть может, самое сильное впечатление производила та отстраненность, с какой он предоставлял этому влечению, пробужденному в учениках, развиваться своим путем, порой приводящим их к метафизике, чуждой его собственной или даже ей враждебной; он ожидал, что в вопросах более глубоких, касающихся не столько философской концептуализации, сколько духовных направлений в философии, будут подготовлены новые сближения и совпадения.
Если бергсоновская философия никогда до конца не признавалась себе самой в той метафизике, которую она таила, тогда как могла бы громко заявить о ней, если она осталась гораздо теснее прикованной к позитивной науке и более зависимой от нее, чем позволяла предположить ее резкая реакция против сциентистской псевдометафизики, то лишь потому, что сама эта реакция была изначально обусловлена радикальным эмпиризмом. Только собственным оружием науки, принявшей антиметафизическую направленность, только опытом – опытом несравненно более верным и более глубоким – Бергсон намеревался преодолеть ложный культ научного опыта, механистический и детерминистский экспериментализм, выдаваемый вульгаризаторской философией за требование современной науки. По его собственным словам, он верил в возможность философского метода, «строго ориентированного на воспроизведение опыта (внутреннего и внешнего)» и «не позволяющего вывести заключение, в чем бы то ни было выходящее за пределы эмпирических наблюдений, на которых оно основывается»[2]. Эта весьма жесткая формулировка выражает суть интегрального эмпиризма.
Твердо решив неукоснительно следовать определенному таким образом методу, Бергсон, казалось бы, должен был постепенно отдаляться от метафизики, все более и более замыкаясь в области эмпирии. С одной стороны, от своей философии он ожидал отнюдь не разработки некой метафизики, которая в иерархии знания была бы подчинена экспериментальному знанию (он даже сетовал, что его философию сопоставляли с метафизическими доктринами, таким образом разработанными и занимающими такое место); он ожидал от своей философии, чтобы она стала продолжением экспериментальных наук и даже внесла в них некоторую новизну (в особенности это относится к биологическим дисциплинам). С другой стороны (но эту тему я оставлю для следующей главы), Бергсон должен был прийти не столько к метафизике, сколько к определенной философии морали и религии, именно потому, что только здесь он мог найти опыт, в котором он нуждался, чтобы, применяя избранный раз и навсегда метод, развивать свои исследования дальше.
Однако же ясно, что бергсонизм заключает в себе некоторую метафизику. И хотя бы в порядке excursus, в порядке, так сказать, маргинальных попыток Бергсону приходилось время от времени уделять внимание принципам этой метафизики. Ею мы и должны сейчас заняться: нам нужно выявить ее и оценить ее значение.
Интуиция длительности
Вначале приведем некоторые сведения о генезисе бергсоновской метафизики.
Поистине центральным и первичным в этом генезисе было углубление смысла понятия длительность.
Вспомним строки, где Бергсон сам дает нам важные пояснения относительно истории своей доктрины. «По моему мнению, – писал он Харальду Гёффдингу, – всякое краткое изложение моих взглядов исказит их как единое целое и в результате сделает их весьма уязвимыми для критики, если с самого начала не обратится и не будет без конца возвращаться к тому, что я рассматриваю как сердцевину своего учения: к интуиции длительности. Представление о множественности “взаимопроникновения”, совершенно отличной от нумерической множественности, представление о гетерогенной, качественной, созидательной длительности – вот из чего я исходил и к чему постоянно возвращался. Это представление требует от ума большого усилия, отказа от многих основоположений и как бы нового способа мышления (ибо непосредственное далеко не тождественно тому, что легче всего заметить); но когда мы приходим к такому представлению и придерживаемся его в его простой форме (которую не следует смешивать с воспроизведением в понятиях), то мы чувствуем необходимость изменить свою точку зрения на реальность; самые большие трудности – теперь это для нас очевидно – возникли оттого, что философы всегда располагали время и пространство на одном уровне: эти трудности по большей части либо становятся вполне разрешимыми, либо и вовсе исчезают»[3].
В чем же состояло центральное открытие Бергсона – открытие длительности, порожденное, прежде всего, размышлениями над современной наукой, и в частности физикой, и, возможно (если верить некоторым свидетельствам), непосредственно связанное с изучением аргументов элеатов против движения? Я говорю сейчас не о Бергсоновой теории длительности и не о его теории интуиции длительности – я говорю о ядре бергсонизма, о подлинной интеллектуальной интуиции.
Касаясь центральной интуиции, из которой берут начало великие философские учения, и «образа», опосредствующего абсолютную простоту этой интуиции и сложность ее концептуальных выражений, Бергсон пишет: «Образ этот характеризует, в первую очередь, заключенная в нем сила отрицания. О широко распространенных идеях, о тезисах, представляющихся очевидными, об утверждениях, доныне считавшихся научными, она нашептывает философу слова: это невозможно. Невозможно, даже если факты и доводы, казалось бы, убеждают тебя в том, что это возможно, реально и достоверно. Невозможно, потому что некий опыт, пускай неясный, но определяющий, говорит тебе моим голосом, что он несовместим с приводимыми в подтверждение фактами и выдвигаемыми доводами и, значит, эти факты наблюдались недостаточно внимательно, эти рассуждения ложны […] Впоследствии философ может пересмотреть свои утверждения; но в отрицании своем он будет непреклонен. И если его утверждения меняются, то причина этого опять-таки в силе отрицания, присущей интуиции или ее отображению»[4].
Итак, согласно самому Бергсону, его основная интуиция, интуиция длительности, несла в себе прежде всего отрицание. Каково же было это отрицание, столь мощное и неодолимое? – Реальное время не есть уподобленное пространству время нашей физики; и это несомненная истина, так как временные промежутки, с которыми имеет дело физик, представляют собой математические сущности, построенные по пространственно-временным меркам и, конечно, основывающиеся на реальном времени, но не тождественные ему: реальное время – онтологического, а не математического порядка. Но рассматриваемое нами отрицание простирается гораздо дальше: как реальное время не есть превращенное в пространство время физико-математики, так и движение не есть множество последовательно сменяющих друг друга состояний; равным образом и реальность несводима к осуществленным в дальнейшем реконструкциям, реальность не есть повторение идентичных событий, реальность не есть придуманное механицизмом соединение неподвижных состояний и готовых элементов, не имеющее ни онтологической плотности, ни какой-либо направленности, ни внутренней способности к распространению.
Однако Бергсонова интуиция длительности содержит в себе не только отрицание, сколь бы сильным, сколь бы значимым и плодотворным оно ни было. В ней есть и положительное содержание (мы все еще рассматриваем эту интуицию не в том концептуальном выражении, в каком ее мыслил сам Бергсон: мы, признаться, несколько самонадеянно, пытаемся путем абстракции выделить и восстановить ее в качестве подлинной интеллектуальной интуиции, иными словами, строго ограничить ее теми пределами, в которых она, по нашему мнению, истинна). Так вот, положительное содержание интересующего нас опыта относится, я думаю, к внутреннему развитию психической жизни, к переживаемому движению, благодаря которому на уровне более глубоком, нежели уровень сознания, наши психические состояния соединяются в некое виртуальное, но, однако, единое множество, – к движению, благодаря которому мы чувствуем, что мы существуем во времени, что мы длимся, изменяясь в действительности нераздельным образом, но при этом качественно обогащаясь и побеждая инертность материи.
Именно таков опыт конкретной реальности длительности, опыт продолжающегося существования нашей глубинной психической жизни, в котором неявно присутствует представление о непреходящей метафизической ценности бытия. Доверимся свету метафизической абстракции, не будем бояться крайней степени очищения, предполагаемой абстрагирующей, или эйдетической, интуицией и не размывающей, а, наоборот, концентрирующей в абсолютно предельной простоте то, что является в реальном самым важным и что первое открывает его для нас, – этот опыт переживаемой длительности души будет преобразован, он прямо приведет уже не только к длительности, но и к существованию или, точнее, к акту существования (l’exister) в его чистой существенности (consistance) и его умопостигаемой полноте и станет метафизической интуицией бытия. Бергсон не решился на это. Его интуиция психической длительности была непогрешима постольку, поскольку включала в себя подлинную интеллектуальную интуицию, но он не овладел всем онтологическим содержанием, которым она была богата, оставаясь таковой невзирая ни на какие интерпретации; он не осмыслил ту актуальность, ту щедрость бытия, ту созидательную изобильность, что являет себя в действии и движении (и на самом деле исходит от причины бытия), короче говоря, не увидел всей онтологической сферы, в действительности затронутой его интуицией в опыте психической длительности; напротив, он немедленно концептуализировал свою интуицию в понятии, в двусмысленной и обманчивой, на наш взгляд, идее того, что можно назвать, в историческом и систематическом смысле, бергсоновской длительностью.
Интуиция и концептуализация
И вот мы оказались перед великой, непроницаемой тайной интеллектуальной жизни. Не бывает интуиции per modum cognitionis, не бывает интеллектуальной интуиции без понятий и концептуализации. И, однако, интуиция может быть истинной и плодотворной (если это действительно интуиция, она даже непреложно истинна и плодотворна), между тем как концептуализация, в которой она выражается и в которой она находит свое место, ошибочна и иллюзорна.
Как же это возможно? Вспомним, прежде всего, о том, что ум зрит посредством понятий и в понятиях, которые он, повинуясь жизненной необходимости, создает в себе самом. Неутолимая жажда реальности заставляет его беспрестанно блуждать по всему пространству внешнего и внутреннего опыта и по всей области уже обретенных истин в постоянном поиске сущностей, как говорил Аристотель, и все возникающие в нем понятия и идеальные конструкции предназначаются лишь затем, чтобы служить чувству бытия, самому глубокому из того, что есть в уме, и облегчать интуитивное распознавание, в котором состоит самый акт ума. В ни с чем не сравнимые мгновения интеллектуального открытия, когда, впервые схватывая, в почти беспредельной широте ее возможностей распространения, живую сверхчувственную реальность, мы ощущаем, как в глубине нашего сознания всходит и развивается семя духовного глагола, силою которого реальность эта становится для нас явственной, – в подобные мгновения мы хорошо знаем, что такое присущая интеллекту способность интуиции, знаем, что она осуществляется через понятие.
Да, но ведь этот духовный глагол мы образуем как слово, принадлежащее к неисчислимому концептуальному инструментарию, к универсуму идей и образов, сформировавшихся в нас в результате многолетнего труда познания, которому мы предавались с тех пор, как в нашем духе впервые пробудилась способность рефлексии. Если в этой концептуальной массе есть какой-либо серьезный пробел, искажения или существенные пороки, иначе говоря, если наше доктринальное оснащение не лишено заблуждений или изъянов, тогда духовное усилие, посредством которого интеллект – благодаря своему внутреннему путеводному свету – внезапно выявляет из опыта и из накопленных фактов, из всех чувственных впечатлений новый лик реальности, сияющий жизненной свежестью (он прикасается к этому лику, жадно вглядывается в его черты, только его и видит, он прозревает его в вещах, и именно так заканчивается совершаемый им познавательный акт, ибо этот акт направлен на вещи и не останавливается ни на обозначениях, ни на высказываниях), – духовное усилие, увенчивающееся подлинной интуицией (несмотря ни на что, непогрешимой), достигнет реальности только через знаки и в знаках, которые созданы и упорядочены с использованием уже имеющегося в наличности материала, отягощенного ошибками и несовершенствами, и потому будут выражать эту интуицию неадекватно, с помощью высказываний, в большей или меньшей степени ошибочных, а порой и грубо, непоправимо ошибочных, – по крайней мере до тех пор, пока наша общая система понятий не будет полностью пересмотрена вследствие самой этой интуиции и вызванных ею несоответствий.
Таким образом, сердцевину всякой великой философской системы, как заметил Бергсон в известной работе, составляет предельно простое, но неисчерпаемое умозрение, однажды преисполнившее дух уверенностью. У всякого великого философа и вообще всякого великого мыслителя есть центральная интуиция, которая сама по себе его не обманывает. Но эта интуиция может быть концептуализирована и действительно очень часто концептуализируется в какой-либо ошибочной, быть может даже пагубной, доктрине. Пока философ целиком поглощен собственными идеями, сам он не в состоянии провести различие; но когда-нибудь различение непременно будет сделано. Вдумаемся, какая тут разыгрывается драма! Через интуитивную уверенность духу внезапно открывается подлинная реальность, и они внезапно экстатически сливаются друг с другом; но поскольку это неизбежно сопряжено с концептуализацией, осуществляемой нашими средствами, нас с самого начала подстерегает опасность впасть в более или менее серьезное заблуждение и поставить под угрозу целую систему вполне обоснованных высказываний, принимаемых здравомыслящими людьми за истинные. Ради того чтобы избегнуть такой опасности, отвратится ли дух от представившейся ему реальности, от бытия, на миг увиденного с недоступной прежде стороны? Нет, это невозможно: философ знает, что его первейший долг – следовать свету разума. Он должен самым тщательным образом поверять все свое концептуальное снаряжение, но он не может не устремляться к бытию. Во что бы то ни стало! От него требуется не впадать в заблуждения. Но прежде всего от него требуется прозревать.
Бергсоновская концептуализация длительности
Однако мы отклонились от своей темы. Вернемся к идее, или понятию, длительности у Бергсона. Я уже сказал, что, по моему мнению, понятие это ошибочно.
Почему? Каким образом? Мы говорили о преимущественно негативном значении интуиции. Так вот, понятие, о котором идет речь, отрицает больше, чем интуиция, оно распространяет отрицание за пределы собственного содержания интуиции. В бергсоновском понятии длительности утверждается не только, что реальное время не есть пространственное время нашей физики, что изменение не есть множество следующих друг за другом состояний, что движение не разделено, нераздельно, т. е. актуально едино, и если его делят, тем самым уничтожают вместе с его единством и его собственный признак (в таком духе Аристотель говорил даже, что 6 есть нечто иное, чем 3 плюс 3)… Сверх того, в бергсоновском понятии длительности утверждается, а это-то как раз и ложно, что движение не делимо, неразделимо, что в движении невозможно различить части, пусть даже потенциальные, как во всяком континууме; в нем утверждается, что время не есть нечто входящее в изменение, или движение, но отличное от самого изменения и отличное от субъекта изменения, – не есть, стало быть, непрерывный поток изменчивости. Реальное время есть именно этот поток изменчивости, т. е. из всего сущего в мире оно наименее субстанциально. Бергсоновское же понятие длительности это отрицает.
Ну а в позитивном аспекте? Это понятие превращает время в нечто субстанциальное, можно сказать, что оно неразрывно соединяет в одной идее-образе идею субстанции, идею времени и идею психической текучести и психической множественности, так что все это вместе составляет тот «снежный ком, растущий по мере своего движения», который не раз упоминается у Бергсона.
Короче говоря, бергсоновский опыт длительности не был обращен к бытию и не привел к метафизической интуиции бытия, как того требовала природа вещей; при концептуализации он принял ложное направление, – хотя по-прежнему неявно обладал, именно в качестве опыта, всем тем онтологическим содержанием, о котором мы сказали выше. Бергсоновский опыт длительности концептуально выразился в нетвердом, ускользающем от определения понятии времени как субститута бытия, времени как первоосновной ткани реальности и специфического предмета метафизики, времени как первого объекта не ума, конечно, в том смысле, в каком Аристотель говорил, что бытие есть первый объект ума, а той обращенности ума на самого себя, позволяющей ему восстановить в себе возможности инстинкта, которая именуется бергсоновской интуицией и которая заменяет для Бергсона интеллект как способность витального восприятия реальности, хотя он одно время думал назвать ее самое «интеллектом».


