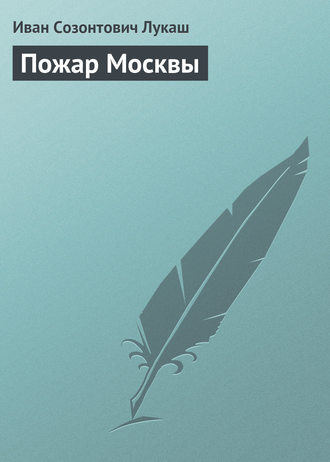
Иван Созонтович Лукаш
Пожар Москвы
XXI
В мокропогодицу тамбовскими проселками на гнедом коне скакал всадник, похожий на костлявого цыгана, в черной венгерке со споротыми шнурами. Его смуглое лицо было забрызгано снегом и грязью.
В цыгане, блуждающем по полям, трудно узнать Павла Енголычева, Кентавра парижского. Нынче была получена в помещичьем доме эстафета с оказией из столицы, и Кентавр с утра, едва подтянув подседельник, поскакал в поля. В эстафете писали из Петербурга о декабрьском мятеже и о том, что картечь на Сенатской площади снесла голову Мише Полторацкому.
Вечером мокрый конь жадно лизал снег на дворе усадьбы: Кентавр вернулся в потемках. Из флигеля, где окна забиты тряпьем, вышел заспанный дворовый, скребя по снегу опорками, повел коня мимо деревянных колонн барского дома к конюшням, к пруду, где примерзла к сугробу разбитая бочка.
Запущена и обезлюдела тамбовская усадьба с самой кончины госпожи Енголычевой. Двоих сирот оставила покойница вдовцу. На антресолях барского дома, где день и ночь топится русская печь, ветхая ключница Киликия ходит за двумя черноволосыми сиротками в затасканных бархатных сюртучках. Уже наезжала дальняя родня из Тамбова: скоро сирот отвезут в казенное дворянское заведение.
В нижнем покое ободраны шпалеры, в углу – архалук на ворохе сена, арапники и чубуки – на продавленных креслах, а на столах – горки серого пепла из трубок. Печален и пуст покой вдовца Кентавра.
Тут на поминках госпожи Енголычевой гремел весь уезд, тут пьяный хозяин расстреливал портреты, зеркала и разгонял гостей, тут, скалясь от рыданий, он бегал ночью с двумя сиротками на руках, тут же молился у тяжелого венчального образа.
В барском кабинете на столе, засыпанном пеплом, теперь лежит скомканное петербургское письмо. Ходит барин по кабинету, и ветхая Киликия слышит на антресолях его быстрые шаги.
По лестницам, у сундуков, по тесному проходцу пробирается согнутая в три погибели ключница к круглому залу послушать у барской двери.
Есть портрет в покое вдовца, над столом с мешочками овса и ржи, конторскими счетами и синими книжками «Сына Отечества». Портрета не видно в потемках, но на тусклой раме внизу есть медная дощечка. В самый год кончины супруги приказал барин выгравировать на медной доске затейливую надпись:
«Сей портрет супруги моей и матери любезных детей Евгении Иосифовны Енголычевой порядочно писан с натуры майя 16 дня 1819 года. Любезная моя супруга, будучи французской нации от роду и нося в девичестве славную военную фамилию Дорфей. была увезена мною в гусарском седле из самой столицы французской. В Бозе почила сентября 29 дня 1822 года. Спи с миром, голубка залетная».
– Улетела залетная, – шепчет Кентавр. – Мишку на площади убили. Все исчезло… А чудилось, такая жизнь будет у всех, – такая… Какие победы, как Париж брали… Исчезло.
Кентавр стоит на коленях, положив на кресла лохматую голову. На полу в шандале горит свеча.
XXII
Мартовской ночью черный катафалк с телом императора Александра привезли из Таганрога в Петропавловскую крепость на погребение. Гром погребальных салютов рассыпал во дворе у Кронверкской куртины казенную поленницу дров, разбил беленые стекла в казематах.
Еще до того, как гремели салюты по усопшему императору, ходила по петербургским госпиталям и часовням бледная госпожа в черном салопе. Ходила она по часовням от самого января.
В Обуховской больнице на ступеньках в покойницкую госпожа встретила смуглую мещанку в худой шубке и пуховом платке. Они уступали друг другу дорогу в подвал, но, как бывает, не могли разминуться.
Мещанка прислонилась к холодной стене, и госпожа прошла. Так гренадерская вдова Сусанна Перекрестова встретила в Обуховской больнице Параскеву Кошелеву, прибывшую в столицу из Москвы.
Так разыскивали они своих мужей, и в часовнях, наклоняясь к мертвецам, прикрытым госпитальной холстиной, пристально всматривались друг в друга и проходили молча. Они не нашли мужей.
Много людей ходило тогда по мертвецким. Ходил еще один человек: солдат с тремя нашивками на рукаве, угрюмый старик с жесткими баками, крепостной капрал Аким Говорухин. За выслугу лет по отставке был отчислен Говорухин от гвардии, и по Петропавловской крепости в гарнизоне служил сверхсрочно унтер-офицером на Кронверкской куртине. Когда госпожа в черном салопе шла из Смоленской часовни Васильеостровским проспектом, ее нагнал старый капрал.
– Не оступись тут, сударыня, – сказал старик. – Смотри, ступеньки во льду.
Госпожа не поблагодарила или не слышала. Она смотрела перед собой.
– И кого ищешь? Который день стречаю… Ты мне скажи, кого ищешь, ты не бойсь: я, может, тебе пособлю. Я в крепости состою, и кто жив, да в казематах схоронен, тех я всех знаю.
– Да, – госпожа пошевелила бледными губами. – Ищу. Полковник Кошелев. Петр Григорьевич.
– Кошелев, Кошелев… Может, Каховский?
– Нет. Кошелев.
– Господин Каховский содержится, а Кошелева нет. Пестель Павел Иваныч, Муравьев-Апостол Сергей Иваныч, Кондратий Федорыч Рылеев, господин Бестужев, господин Басаргин… А господина Кошелева, сказываю, нет. Да который Кошелев, не гренадерского ли полка?
– – Да, гренадерского.
– Так ты, стало, супруга его… Так ты… А, болезная. Ты слушай меня: господина Кошелева в каземате нету, а я тебе, сударыня, услужить рад. Где искать-то, не знаю. Я тоже ищу: наших гренадеров сколько с господами на площади побито. Хожу по мертвецким, а никого нет. Крестника ищу полкового, верного солдата Михаилу Перекрестова, шеврониста. Нет нигде.
Госпожа смотрит перед собой.
– Я тебе скажу, наши гренадеры присяги не нарушители. Они за присягу на площади стояли. Не от них горе Рассее. Они государя в замке не душили. Знаем, от кого горе… А привезены намедни на Кронверскую куртину пять дощатых гробов и складены в пороховой погреб. Никому не будет пощады и милости. Ни одной душе.
Старый солдат, мигая белыми ресницами, говорит сам с собой:
– Того ли ждали при Александре-то Павлыче, государе… А как доставили мне записку, из Таганрога, своеручное писание дальнего странничка нашего Родивона Степаныча, ждал я благостыни Господней Рассее… Свершил странствие наш Кошевок, а кому о том нынче скажу? Некому и сказать. Побиты гренадеры на площади. Ни одной души. А и запись своеручная Родивона Степаныча тут при мне, на грудях. А кому нынче покажу? Правда о кончине государя Павла Петровича в записи той прописана. Правда сыну открыта, и отвергся сын беззакония, а за него во гроб лег болящий раб Божий Родивон.
– Что вы, о ком?
Госпожа в черном салопе только теперь услышала бормотанья солдата. Остановилась, сжала руки:
– Где он сокрыт, он у вас?
– А, сударыня, у меня нет, я докладывал. На площади убили.
– Убили.
Госпожа выпрямилась, подавленное отчаяние, с которым ходила она по петербургским мертвецким, напрягло ее тяжелое тело. Выпрямленная, она пошла вперед твердо и сильно. Руки были поджаты к груди, точно давила она там тяжкий вопль и несла молча.
Реял вечерний снег. У церкви Андрея Первозванного еще были отворены двери, хотя вечерня уже отошла. В притворе нищий на деревяшке пересчитывал медяки на ладони.
Церковь была пуста и темна. Госпожа у солеи остановилась. На правом клиросе одинокий торопящийся голос пел панихиду или молебен. Голос ходил, как гулкое эхо в глубоком колодце.
Госпожа пошатнулась, прошла в угол к темной иконе. На паникадиле еще мерцали две свечи: одна догорала.
С улицы вошел старый солдат и стал у свечного ящика, теребя в руках бескозырку. Голос на клиросе смолк. Церковный сторож гасил лампады у верхних икон длинным шестом с закопченным колпачком на конце.
Госпожа покачивалась на коленях. Точно обессилев от глубокого сна, бродили по груди ее руки и сжатые пальцы разжимались, как бы слабея. Погруженной в сон казалась она. Но прозрачные глаза полуоткрылись. Она оперлась неловко ладонями о плиты.
Под сердцем пошевелилось дитя. Она пробудилась. Она пробудилась и прошла мимо старого солдата в притворе. Солдат, теребя бескозырку, желал ей что-то сказать, но только подвигал седыми бровями.
Когда казематный капрал вышел на паперть, госпожа уже перешла по серому снегу шестую Васильеостровскую линию. Над заборами реял сумеречный снег.







