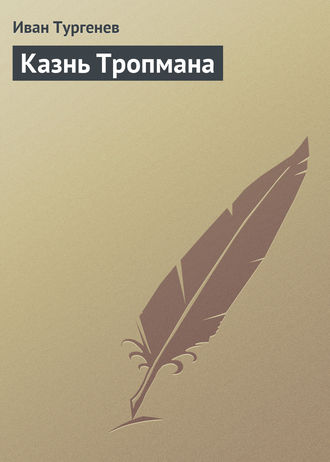
Иван Тургенев
Казнь Тропмана
Потом он нагнулся и надел ботинки, сильно стуча каблуками и подошвами о пол и о стену, чтобы ноги лучше и плотнее вошли. Все это он делал развязно, бойко – почти весело – точно его пришли звать на прогулку. Он молчал – и мы молчали и только переглядывались, от изумления невольно пожимая плечами. Всех нас поражала простота его движений, простота, доходившая, – как всякое вполне спокойное и естественное проявление жизни, – до изящества. Один из наших товарищей, случайно встретившись со мною потом в течение дня, сказал мне, что ему, во время нашего пребывания в каморке Тропмана, постоянно сдавалось: мы не в 1870 году – а в 1794; мы не простые граждане – а якобинцы – и ведем на казнь не вульгарного убийцу – а маркиза-легитимиста – un cidevant, un talon rouge, monsieur![8] Замечено, что осужденные на казнь по объявлении им приговора либо впадают в совершенную бесчувственность и как бы заранее умирают и разлагаются; либо рисуются и бравируют; либо, наконец, предаются отчаянию, плачут, дрожат, умоляют о пощаде… Тропман не принадлежал ни к одному из этих трех разрядов – и потому озадачил даже самого г. Клода. Скажу кстати, что если бы Тропман стал вопить и плакать, нервы мои наверное бы не выдержали и я убежал бы. Но при виде этого спокойствия, этой простоты и как бы скромности – все чувства во мне – чувство отвращения к безжалостному убийце, к извергу, перерывавшему горла детей в то время, когда они кричали: maman! maman! – чувство жалости, наконец, к человеку, которого смерть уже готовилась поглотить, – исчезли и потонули в одном: в чувстве изумления. Что поддерживало Тропмана? То ли, что он хотя не рисовался, – однако все же «фигурировал» перед зрителями, давал нам свое последнее представление; врожденное ли бесстрашие, самолюбие ли, возбужденное словами г. Клода, гордость борьбы, которую надо было выдержать до конца, – или другое, еще не разгаданное чувство?.. Это тайна, которую он унес с собой в могилу. Иные люди до сих пор убеждены, что Тропман не вполне владел своим рассудком. (Я упомянул выше об адвокате в белой шляпе, которого я, впрочем, больше уже не видал.) Бесцельность, можно почти сказать нелепость истребления целого семейства Кинков – до некоторой степени служит подтверждением этому убеждению.
IX
Но вот он покончил со своими ботинками – и выпрямился, встряхнулся: готов, мол! На него снова надели тюремный камзол. Г-н Клод попросил нас всех выйти – и оставить Тропмана наедине со священником. Мы и двух минут не ждали в коридоре, как уже его небольшая фигурка с прямо и смело поднятой головою опять появилась между нами. Религиозное чувство было в нем слабо, и он, вероятно, исполнил последний обряд покаяния перед священником, отпускавшим ему его грехи – именно как обряд. Вся наша группа, с Тропманом посередине, немедленно взошла на узкую, винтообразную лестницу, по которой мы четверть часа тому назад спускались, – и потонула в непроницаемом мраке… ночник погас на лестнице. Это была минута ужасная. Мы все стремились вверх, слышался торопливый и грубый стук наших ног по плитам ступенек, мы теснились, толкались плечами, с одного из нас свалилась шляпа, кто-то сзади злобно кричал: «Mais sacredieu![9] Зажгите свечку! Посветите!» – а тут же, между нами, вместе с нами, в глухой темноте – наша жертва, наша добыча… этот несчастный… и кто из нас, толкавшихся, теснившихся – он? Не вздумает ли он воспользоваться темнотою – и со всем проворством и решимостью отчаяния – броситься… куда? Куда-нибудь, в отдаленный угол тюрьмы – и там хотя лбом о стену! По крайней мере сам себя порешил…







