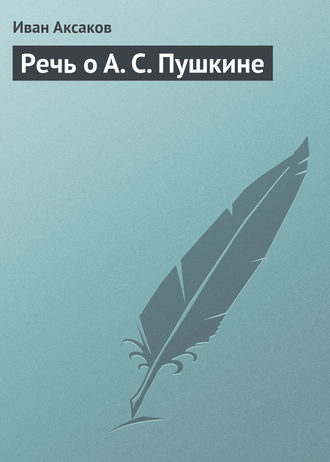
Иван Аксаков
Речь о А. С. Пушкине
В 1819 году в торжественном заседании нашего же Общества любителей российской словесности и в этом же самом зале рассуждалось «о господине Буало и гении Корнеля, сих вечных образцах искусства». Расширяя, однако, число образцов и поприще для русской литературы, ученый, достойный всякого уважения, председатель общества Мерзляков вещал, между прочим, в своей речи таким образом: «Почтенные мужи!.. Птичка научила человека радоваться и воспевать свою радость… Пусть на цветущем поле нашей словесности резвятся в разновидных группах Амуры, Зефиры и Фавны»[5]. Вы улыбаетесь и снисходительно припоминаете, что все это ведь говорилось 61 год тому назад…
И в том же самом 1819 году раздаются в слух русского общества такие, например, стихи 20-летнего Пушкина:
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
На нем бессмысленно чертит;
Но краски новые, с годами,
Спадают ветхой чешуей,
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой[6] и пр.
Стихи также написаны 61 год тому назад, но здесь искусство достигло того зенита зрелости и совершенства, с которого никакое уже время не сводит.
Точно день, белый день, настал для русского общества с появлением Пушкина. Призраки, обманные очертания ночи отшатнулись, уступив место правде дня с ее простотою и красотою. Творчеству русского духа, по крайней мере в сфере поэзии, возвращена свобода и полноправность. Поэтическое откровение опередило работу нашего народного самосознания и разрешило задачу, – до теоретического разрешения которой мысль и наука только теперь дорастают. Какая богатырская сила таланта нужна была для того, чтобы, подобно подземному ключу, поднять, своротить все эти плотные наслоения лжи и пробиться наружу таким величавым потоком русской поэзии? Но одного свойства силы было здесь недостаточно. Только великий, всесовершенно искренний и цельный мастер-художник, только (говоря поэтической метафорой) жрец чистого искусства, никаких задач вне искусства не знающий, но притом с живой русской душой, мог совершить такой великий исторический общественный подвиг. Пушкин как художник стоит уже не на относительной, а на абсолютной высоте, не подлежа сравнению ни с каким иностранным поэтом, не как «наш Гораций», «наш Парни» или «наш Байрон», а сам по себе, как Пушкин. Правда русской народности могла завоевать себе всемирное гражданство в искусстве только через безусловную в самой себе правду искусства. И именно потому, что Пушкин был служителем чистого, т<о> е<сть> искреннего в себе самом искусства, не обращал поэзию умышленно в орудие разных предвзятых идей и теорий, ни политических, ни социальных, не сузился в доктринера, не ставил себе внешнею целью «пользу», не послушался толпы сторонников грубого утилитаризма, а неуклонно слышал в душе своей иной божественный голос: «не о хлебе едином жив будет человек», – только потому и явился он таким беспредельно полезным общественным деятелем. Да, потому именно и стало велико и бессмертно историческое дело Пушкина, что он мог с полной искренностью и полным правом сказать о себе:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…[7] —
Какой еще «пользы» нужно? Да ведь такие стихи, такие звуки – благодеяние!







