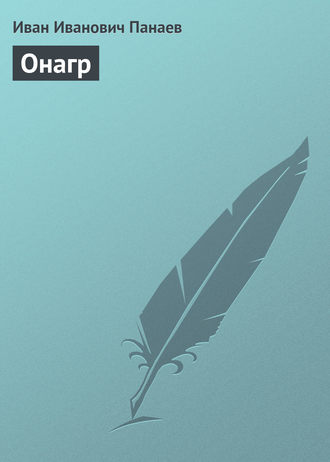
Иван Иванович Панаев
Онагр
Глава VII
Старый кавалерист и его семейство. – Успехи Онагра
На другой день после бала г-жи Горбачевой Онагр проснулся часа в два, оделся и поехал к Маше; однако лицо и стан девушки с черными локонами все мелькали перед ним. Машей он был доволен и тотчас же приказал нанять для нее квартиру, сам выбрал ей мебель и записался по ее просьбе в «Библиотеку для чтения» Смирдина, потому что она охотница до романов. Маша завелась своим хозяйством; Онагр всякий день у нее, и часто по вечерам они ездят в обшевнях тройкой в Екатерингоф или на Крестовский остров. Эти поездки особенно веселы… Жаль только, что зима проходит и дорога портится.
Однажды (это было в первых числах марта) Онагр ехал по Гороховой улице, а офицер с серебряными эполетами перебегал через дорогу…
– Пади! – закричал ему кучер Онагра.
Офицер обернулся.
– А, мон-шер, это ты! Же-ву-салю. Чуть не задавил меня… Постой на минутку…
Онагр приказал остановиться. Офицер подбежал к саням…
– Куда, мон-шер? Слякоть ужасная; к святой, верно, не высохнет, под качелями будет грязно; жаль!
– А ты куда? Что поделываешь? – спросил Онагр.
– Был с визитом у Змеевых, мон-шер.
– Кто это Змеевы?
– Будто ты не знаком с ними? Приятный дом, мон-шер: отец славный малый и мать добрая старушка, а о дочке и говорить нечего, – знаешь, что на княжну похожа… Ты с ней у Горбачевых танцевал. Я с ними познакомился сейчас после бала.
– Ах, братец, представь меня к ним! Ты мне сделаешь большое одолжение.
Девица с черными локонами явилась Онагру опять во всей красе своей; опять пришла ему в голову мысль, как бы хорошо надеть на нее бархатный капот и пройтись с нею по Невскому.
– Изволь, мон-шер, представлю, когда хочешь; я у них почти свой в доме, на короткой ноге, меня все любят; завтра же скажу им о тебе; отец охотник до лошадей, а у тебя славные лошади… Прощай.
– Смотри же, представь.
– Конте-сюр-муа, мон-шер.
Дня через три Онагр с офицером явились к Змеевым.
Отставной полковник-кавалерист, среднего роста, полный, с большими черными усами, с проседью, в венгерке с кистями, прохаживался в своем кабинете и пробовал хлыстик. Кабинет украшался токарным станком, двумя черкесскими кинжалами, винтовкой, коллекциею черешневых чубуков и двумя гипсовыми лошадьми.
Офицер представил Онагра полковнику.
Полковник пожал ему руку – и так крепко, что Онагр едва не вскрикнул.
– Без церемонии, господа, я привык по-военному, прошу садиться – диван не мягкий, а сидеть можно.
– Как в своем здоровье Дарья Николаевна и Ольга Михайловна? – спросил офицер.
– Здоровы, здоровы; спасибо: у жены сидит Иконин, нравоучительные книжки ей читает; она любительница проповедей: старухе, впрочем, больше нечего и делать. Мы же, кавалеристы, не слишком жалуем красноречие. Нам подавай коня, пороху, дыму, стишков Дениса Васильича…
Полковник носовым платком разгладил усы и захохотал.
– Да, Михайло Андреич, мы, военные, совсем не то, что эти статские. (Офицер с серебряными эполетами указал на Онагра.)
– Вы военные? С какой стороны вы военные? С чего вы это взяли? Вы, сударь, не военные, а так, ни то ни се, ни рыба ни мясо, – вы, я думаю, и пули-то не отличите от мячика; у вас и усов нет!
Полковник засмеялся и обратился к Онагру:
– А я слышал, что вы охотник до лошадей. Что, у вас хорошие лошади?
– Все заводские, дорогие лошади.
– Рысаки-с?
– Рысистые, особенно один гнедой жеребчик.
– Орловский?
– Конечно, настоящий орловский.
– Это хорошо, это я люблю. Нынешние вольнодумцы всё толкуют о скаковых лошадях; всё, видишь, подавай им от Эклипса. Вздор! Скакуны ни к черту не годятся… От Сметанки или от Безыменного – почище будут. Бывало, я вам скажу, как Проворный побежит, весь на воздухе, – так, глядя на него, дух занимается. Любопытно посмотреть ваших лошадок. Я вам имею честь рекомендоваться, милостивый государь, я знаток в лошадях, я старый кавалерист, через мои руки прошло их довольно.
Полковник рассек воздух хлыстиком.
– Очень довольно! И чего я не испытал на своем веку! Сквозь огонь и воду прошел… Пойдемте; я вас моей старушонке отрекомендую.
Он бросил хлыстик на стол.
Жена полковника, худая, желтая, сгорбленная, в чепце, сидела против добродетельного старичка с огромным ртом и благоговейно слушала его проповеди, которые он читал с чувством и с расстановкой.
Дочь полковника вышивала у окна. Голова ее наклонялась к самой канве, и длинные черные локоны почти закрывали лицо.
– А вы еще все читаете, – сказал полковник, войдя в гостиную, – извините, что помешал, нельзя, гостей веду.
– Вот моя жена, а вот дочь, – продолжал полковник, смотря на Онагра, – я третий, и все семейство налицо. Прошу нас любить да жаловать.
Онагр расшаркался перед полковницей, потом перед ее дочерью и заложил палец за жилет.
Девушка подняла голову, откинула от лица свои локоны, посмотрела на офицера и на Онагра, привстала едва заметно и потом снова наклонилась к канве.
Полковница сказала Онагру:
– Я уж, кажется, имела удовольствие видеть вас у Елены Сергеевны Горбачевой.
– Да-с, я был у нее на бале.
– Садитесь, господа, без церемоний, и поболтаемте о чем-нибудь.
Полковник сел первый, откинув назад кисть своей венгерки.
– Милая дама Елена Сергевна; она мне чрезвычайно нравится, – сказала полковница.
– И как одушевлены ее вечера! – закричал офицер с серебряными эполетами, – не видишь, как время летит.
– Это правда.
Онагр подошел к пяльцам, за которыми сидела дочь полковника.
– Вы изволите вышивать?
– Да, я вышиваю.
Она отвечала, не отводя глаз от канвы.
– Прекрасный узор!.. Вы прошедший раз уехали с бала тотчас после мазурки?
– Кажется.
Онагр повертелся около пяльцев и отошел в сторону. Добродетельный старичок с огромным ртом взял шляпу и подошел к ручке полковницы.
– Филипп Иваныч, что это значит? Куда вы? Пожалуйте сюда вашу шляпу: я ее арестую, я действую по-кавалерийски; от старых привычек отстать трудно, – как хотите, а вы с нами обедаете, – и не думайте уходить – не пущу, ей-богу, не пущу!
Голова добродетельного человека покачнулась на его недвижном туловище, и он подал шляпу полковнику.
– А вы, господа? – Полковник обратился к офицеру и к Онагру: – Надеюсь, что вы не откажетесь от моей лагерной кухни.
Девушка взглянула на отца, как будто хотела спросить его: «К чему это?»
Офицер с серебряными эполетами закричал:
– С большим удовольствием! Я зван сегодня на два обеда, – ну, да я не поеду туда.
Онагр хотел было отказаться. Полковник подошел к нему:
– Хотите быть со мной по-приятельски, по-военному?
– Если вы позволите.
Онагр оборотился к окну, где стояли пяльцы.
– В таком случае: слушай! скорым шагом марш в залу, шляпу оставить там – налево кругом – и назад. Вольно!.. Так, славно, – люблю за это. Мы, батюшка, попросту, как видите, по-военному, прошу не взыскать.
– Шутник! – сказала полковница про своего мужа, обращаясь к добродетельному человеку.
Добродетельный человек открыл рот до ушей, то есть улыбнулся, и произнес:
– Так требует военная дисциплина-с. Девушка встала из-за пялец и вышла из комнаты. «Слишком робка, – подумал Онагр, – а талия загляденье и рост отличный; отец немного смешон, а добряк!»
За обедом полковник рассказывал о своей храбрости, о генералах, с которыми служил, о лошадях, на которых ездил, критиковал планы Наполеона, показывал его ошибки, толковал, как и что ему надлежало делать, и беспрестанно повторял: «мы, старые кавалеристы» и «у нас, у старых кавалеристов». Военные анекдоты полковника были очень забавны. Все слушали его с большим вниманием и смеялись; одна дочь его, казалось, не принимала участия в этих рассказах…
С этого дня Онагр стал беспрестанно ездить к полковнику и беспрестанно поглядывать на его дочь, и полковник довольно часто начал посещать Онагра и поглядывать на его лошадей. В доме полковника не произошло никаких перемен: дочь его была робка по – прежнему; в конюшне Онагра делались улучшения с каждым приездом полковника.
Люди Онагра громко начинали поговаривать, что барин их женится на дочери полковника. И для самого барина эта мысль незаметно становилась доступнее и правдоподобнее… Бархатный капот, Невский проспект и девица с черными локонами – эти три предмета составляли что-то нераздельное в его воображении. Ему смутно представлялся иногда ряд прекрасно меблированных комнат, в которых он и супруга его принимают господ в звездах и орденах и госпож в нарядных чепцах и мантильях; он видел иногда двух лакеев с гербами сзади своей кареты; ему казалось иногда, что он сидит возле супруги своей, и целует ей ручку, и играет ее черными локонами, и…
«Робость ее пройдет; это вздор, – говорил он самому себе. – К тому же я ее буду беспрестанно вывозить… В свете заговорят о моей квартире, о моих балах, о моей жене, о моем экипаже. Весело быть женатым! А Маша? и она мила и влюблена в меня по уши. Что за беда? я буду ездить и к Маше…»
Онагр заехал в магазин и купил Маше золотую брошку.
Возвратясь от нее поздно вечером, он был обрадован запиской Дмитрия Васильича:
«Дело слажено, любезнейший Петр Александрыч. Поздравляю вас: его превосходительство Илья Иваныч объявил мне сегодня, что вы определены чиновником особых поручений при департаменте с двумя тысячами рублей оклада. Вы очень понравились его превосходительству. Он говорит, что у вас много приятности в манерах. Чиновник, мною рекомендованный вам в управляющие над деревнями вашими, согласен на условия, которые я предложил ему от имени вашего. Вы будете им довольны, в этом я уверен. Послезавтра он будет у вас, а я приготовлю ему инструкцию. Отправится же он в деревню через неделю. Капитал ваш наконец я устроил: вы будете аккуратно получать от меня по пяти процентов. И это выгодно при нынешних обстоятельствах. Сколько хлопот мне было с этими деньгами! Одно расположение к вам заставило меня взяться за такое дело. Что вы нас совсем забыли?»
На другой день Онагр рассказывал всем своим приятелям, что он по особым поручениям при министре и что ему назначено шесть тысяч рублей жалованья. Офицер с золотыми эполетами, выслушав его, плюнул и сказал:
– Черт тебя возьми, братец! да ты, видно, в сорочке родился! Богач – и еще такое жалованье.
Онагр блаженствовал; он делался идолом петербургской молодежи средней руки, которая с него начинала снимать моды, и преувеличенные слухи о его богатстве и счастии перелетали с быстротою невероятною из Коломны на Остров в Четырнадцатую линию, из Грязной к Смольному монастырю. О нем стали даже рассуждать на Петербургской стороне и на Выборгской…
К довершению всего он дал великолепный обед почетным своим знакомым, во главе которых находились: его новый директор, полковник и Дмитрий Васильич Бобынин. Этот обед, как и должно было ожидать, произвел на всех гостей глубочайшее впечатление.
Прошел месяц… Дочь полковника не переставала рисоваться в его фантазии, и в одно прекрасное апрельское утро, когда солнце показалось на светло-сером петербургском небосклоне для обсушки, вероятно, грязных петербургских улиц, – он ударил себя в лоб очень решительно, сел в коляску и отправился к полковнику.
Никогда еще так рано не выезжал Онагр из дома.
В кабинете полковника он пробыл около часа и вышел оттуда светлый и радостный.
Полковник три раза поцеловал Онагра и произнес с особенным выражением, провожая его:
– Мое слово важнее. Я старый кавалерист. У меня в доме заведена дисциплина, как в полку… Прощай, друг любезный, будь покоен; да накажи кучеру-то, чтоб берег Красавца и хорошенько чистил его. Васька твой большой лентяй! Ты, брат, с ним действуй по-нашему, по-военному…
Онагр прискакал домой и прямо к письменному столу; он написал:
«Любезнейшая маменька!
Я давно хотел уведомить вас о моих чувствах к дочери генерала Змеева, но откладывал, потому что сам желал в них удостовериться. Теперь я вижу, что люблю ее страстно и что без нее для меня жизнь ничтожна. Она также влюблена в меня и говорит, что с самой первой минуты, как увидела меня, участь ее была решена. Сейчас получил согласие на брак с нею от ее родителей. Через этот брак я породнюсь со многими самыми знатными лицами в Петербурге. Милая, любезнейшая маменька, целую ваши ручки, на коленях прошу вашего благословения и жду с нетерпением ответа… Вашу будущую дочку зовут Ольгой Михайловной; она брюнетка и красавица.
О месте, которое я получил, и об обеде, который был у меня, я уже писал вам. Свадьбу я не хочу откладывать: чем скорей, тем лучше. Не приедете ли вы, неоцененная маменька, сами в Петербург? Еще раз целую ваши ручки. Остаюсь
ваш покорнейший и послушнейший сын Петр Разнатовский».
Глава VIII
Семейные сцены. – Доказательство, что добродетельные люди очень полезны. – Жених и невеста
Полковница вязала чулок; дочь ее занималась каким-то шитьем. Полковник вошел к ним. Он посмотрел на дочь с улыбкою, расправил усы носовым платком и два раза молча прошелся по комнате.
– А у меня новость, – сказал полковник, остановись торжественно посредине комнаты и сложив руки на груди по-наполеоновски.
Мать и дочь взглянули на него. На лице матери выражалась робость и покорность, на лице дочери беспокойство.
– Важная новость! – продолжал полковник, – тебе, старухе, не отгадать; ну, а ты не отгадаешь ли, Оленька?
– Что такое, батюшка? – Она отложила свою работу в сторону.
– Отгадай.
– Вы знаете, что я до сих пор не умела отгадать ни одной вашей загадки.
– Гм! эту загадку тебе легче всего отгадать, дурочка. Вы, девушки, мастерицы разбирать такого рода загадки. Моя новость касается до тебя.
– До меня? Она вздрогнула.
– И очень… Поздравляю тебя с женихом, а тебя (он оборотился к жене) с дочерью – невестой.
– Как это, Михайло Андреич? – спросила полковница, вытаращив глаза.
Краска вдруг исчезла с лица девушки.
– Батюшка, вы шутите?
– Какие шутки! тут не до шуток: жених твой только с полчаса от меня вышел.
– Мой жених? Она рассмеялась.
– Что ты, притворяешься или в самом деле не веришь? Я дал за тебя слово (полковник сделал ударение на слово) Петру Александрычу. Будто ты и не заметила, что он давно тебе строит куры? Ох, уж вы мне, скромницы!
Девушка сомнительно посмотрела на отца и на мать.
– Что же вы обе смотрите на меня, как на сумасшедшего? Порастряхни-ка, голубушка, из сундуков дочернее приданое. В солнечные-то дни его и проветрить бы недурно… Ну, поди ко мне, Оленька, поцелуй меня… Ты одержала победу, и славную, черт возьми! А после победы мы затеем праздник – свадебку… Поди же ко мне.
Она молчала.
Лицо полковника хмурилось; он заложил руки назад и бил такт ногою.
– Подойди же к папеньке, – сказала полковница, качая головою, – поцелуй его… Я еще и сама образумиться не могу… Он сейчас приезжал к тебе, Михайло Андреич, с предложением?
– Сейчас, сейчас – говорят вам, сейчас, и я дал слово, слышите ли? Лучше этой партии желать ей нечего: он малый добрый, собой недурен, с большим состоянием, любит ее, – да это клад для нас; ты знаешь, Дарья Николаевна, какие у нас нынче доходы-то: пять, шесть, семь тысяч, да и обчелся; попробуй-ка прожить с этим в столице.
– Правда твоя, правда твоя… – Полковница вздохнула.
– Конечно, я желал бы ей мужа военного, кавалериста, но где теперь взять военных? Что такое нынешние военные? «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова». – Полковник махнул с огорчением рукой.
– Поздравляю тебя, друг мой милый Оленька, – сказала полковница, подходя к дочери с распростертыми объятиями и со слезами на глазах.
Девушка отшатнулась от нее.
– Что это значит? – закричал полковник.
– Что это значит? – повторил он. Полковница пришла в величайшее замешательство.
– Батюшка! – сказала девушка неровным голосом, – батюшка, вы напрасно давали за меня слово. Я не могу выйти за него замуж.
– Не можешь? Я напрасно давал слово?.. С кем вы говорите, сударыня?.. Вы забыли, что перед вами стоит отец. Знайте, что слово мое – слово старого кавалериста. Мы никогда не изменяем ему. Каприз девочки не заставит меня сделаться бесчестным человеком на старости лет.
Испуганная полковница делала какие-то знаки дочери, но она не замечала их и повторила твердо и решительно:
– Я не могу выйти за него замуж.
– А почему бы это так?
– Потому что я не люблю его и не могу любить.
– Вы еще сами, сударыня, не знаете, кого вам надо любить и кого не надо; об этом вы лучше бы спросили отца и мать: они поопытнее вас, подальновиднее и людей могут оценить повернее…
Полковник сердито повертывал кисти своей венгерки.
– Уж не пришел ли вам в голову опять этот щелкопер, который было повадился ходить к нам в Москве с книжками под мышкой?
Болезненное движение показалось на лице ее.
– Вы, кажется, забываете, что вы дочь заслуженного отца, дочь старого полковника, старого кавалериста, коренного русского дворянина, что вам неприлично и стыдно амуриться с семинаристами… что…
– Батюшка! – произнесла она умоляющим голосом. Полковник большими шагами стал измерять комнату.
– Вот тетушкино воспитание! спасибо покойнице, спасибо! есть чем помянуть…
Он потирал руки.
– Модная, умная, ученая женщина была, внушала покорность родителям!.. Что, по вашему, по нынешнему образованию, родители ничего не значат?
Полковник остановился перед дочерью и ожидал ответа.
Она молчала.
– Завтра после обеда Петр Александрыч приедет сюда. Он станет говорить с тобой, ты должна ему объявить свое согласие. Слышишь ли? Всю дурь из головы выкинь, помолись богу да подумай, он вразумит тебя… Слез чтоб я не видал; женские слезы – вода…
Полковник повернулся на каблуках и вышел из комнаты, поправляя усы носовым платком и ворча сквозь зубы:
– У меня целый полк по струнке ходил, я с целым полком справлялся, передо мною полслова никто не смел пикнуть, а теперь родная дочь… покорно прошу!..
Долго после ухода полковника мать и дочь не могли выговорить ни слова…
Полковница сидела не шевелясь, поддерживая рукою свой подбородок; потом банты на чепце ее пришли в движение, и она обернулась к дочери.
– Так он тебе не нравится, Оленька?
Девушка не отвечала.
– Оленька?
Она подняла голову и тихо отвела от лица волосы.
– Не дурно ли тебе, друг мой Оленька? Ты совсем побледнела.
Глаза девушки с минуту были недвижимо устремлены на мать; вдруг она залилась слезами и бросилась на грудь ее.
– Ведь он добрый, хороший человек, – говорила мать, глотая слезы, – его все хвалят… Ты привыкнешь к нему.
Она покачала головой…
– А разве он вам нравится?
– Что ж, мой друг! в нем нет ничего дурного.
– Может быть, но мне так тяжело и неприятно, когда он и этот офицер с очками бывают у нас.
– Отчего же?
– Не знаю. Да как же он может любить меня?.. Он меня не знает…
– Как же не знает, Оленька? Последнее время он очень часто бывал у нас и все смотрел на тебя: это и я заметила… Полно! перестань плакать, мой друг.
Полковница поцеловала ее в лоб и пошла к полковнику.
«Нет, – думала она, – я не могу ее утешить, а ей надобно утешение; так нельзя оставить ее». Робко подошла она к мужу. Он сидел на больших креслах и задумчиво крутил усы.
– Что? образумилась ли она, Дарья Николавна?
– Плачет. Знаете ли, Михайло Андреич, я все думаю, не послать ли нам за Филипсом Иванычем: он человек добродетельный. Пусть он подаст ей советы и утешит ее.
– Это не мое дело, это ваше бабье дело: что хотите делайте, только завтрашний день она должна объявить жениху согласие. Я дал слово, – а я старый кавалерист… Ну, да что толковать об этом… Я думал, что обрадую ее моею новостью. Я не знал, что она такая взбалмошная, избалованная. Скажи ей, чтоб она помнила мое приказание!
Полковница написала к Филиппу Иванычу записку, в которой убедительно приглашала его приехать к ним.
Добродетельный человек тотчас после обеда явился.
– На вас вся моя надежда, Филипп Иваныч, – начала полковница, встречая его, – у нас в доме большое горе.
– Что такое? Помилуйте-с, если я могу чем помочь, то я сочту себя счастливым: это долг-с христианский.
Полковница объяснила ему все и умоляла его принять участие в их положении и уговорить дочь не противиться отцовской воле.
Филипп Иваныч провел рукою по лицу.
– Это обстоятельство важное-с. По вашему желанию-с, я постараюсь, как умею-с, объяснить ей положение ее и подать ей советы-с. Позвольте-с мне поблагодарить вас за вашу доверенность ко мне.
– К кому же, Филипп Иваныч, как не к вам, адресоваться в таком случае!
Рот добродетельного человека приятно расширился да ушей.
– А где же Ольга Михайловна-с?
– Пойдемте к ней. Я предупредила ее о вашем посещении.
Добродетельный человек подсел к девушке и целый час без остановки говорил ей о покорности, о смирении, о том, какая награда ожидает послушных детей в будущем мире и какое наказание готовится не повинующимся воле родительской, о том, что родители всегда желают детям своим счастия, что нам дана воля для того, чтоб мы обуздывали наши желания и беспрекословно повиновались во всем старшим.
Когда он ушел, бедная девушка упала на диван без памяти.
Полковник весь вечер не выходил из своего кабинета.
На другой день она пришла к отцу, объявила, что повинуется его воле, зашаталась и упала. Ее подняли, оттерли и посадили в кресла. Полковник пожал ей руку и сказал:
– Полно, полно дурачиться, Оленька. Ничего; все обойдется; ты его полюбишь, я знаю. Мы с женой останемся жить в Петербурге, будем к вам беспрестанно ездить… Поцелуй меня; я человек военный, старый кавалерист, привык к дисциплине, к порядку, оттого строг немножко… что делать? уж наша служба такая. Поезжай-ка с матерью в магазины, порассейся немножко да к вечеру будь повеселее.
Вечером приехал Онагр. Он был наряднее, чем когда-нибудь: в новом галстуке, в новой жилетке, с новой шляпой, весь пропитанный духами. Его оставили одного с невестой. Несколько запинаясь, объявил он ей о своих чувствах и ожидал ее решения.
Она отвечала, что не противится воле своего отца.
Он поцеловал ее ручку и хотел ей говорить еще что-то, но она встала со стула и вышла из комнаты.
Онагр поправил свои волосы, посмотрел в зеркало и, любуясь талией своей невесты, последовал за нею.
Госпожа Бобынина каким-то образом в этот же вечер подробно, впрочем, с небольшими прибавлениями и изменениями, узнала об удачном сватовстве своего бывшего обожателя и нарочно поехала сообщить это важное событие госпоже Горбачевой; госпожа Горбачева на следующее утро чем свет отправилась с новостию к вдове Калпинской; вдова Калпинская к госпоже Неврёзовой, госпожа Неврёзова… и так далее.
Офицер с серебряными эполетами прибежал к Онагру:
– Ты женишься, мон-шер?
– Женюсь.
– Что это тебе вздумалось?
– Да так, братец; признаться, надоела холостая жизнь.
– И прекрасно, мон-шер; а знаешь ли, этим ты мне обязан: я тебя представил в дом; без меня, может быть, ты и не женился бы. Поздравляю, мон-шер, поздравляю, очень рад; возьми меня в шаферы: я люблю, когда женятся… Я и сам хочу жениться.







