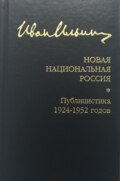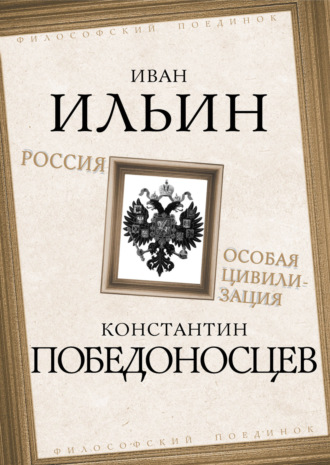
Иван Ильин
Россия – особая цивилизация
Равенство
Существование неровностей в положении членов общества, и весьма значительных, есть факт очевидный для всякого. Главные из них – неровности в возрасте и в поле.
У самого входа в жизнь ждут человека приказание и повиновение и непременно, по необходимости, простирают свое действие на самую важную долю его жизни – до совершенных лет. Следует дальше, что уже простым действием времени одни люди приобретают в отношении к другим неравное, высшее положение, которое все века и все народы, от диких до самых образованных, всячески старались соединить с чувством почтения и страха. Лучшею частью рода человеческого присвоено Божеству имя Отца, потому что с этим именем естественно соединяются понятия о любви, почтении и повиновении. Без сомнения, тот, кем в первый раз произнесено слово: Чти отца твоего и матерь твою, да долголетен будеши на земли, – глубже и совершеннее разумел, что нужно для прочности народного бытия и благосостояния, нежели сочинитель девиза о свободе, равенстве и братстве.
Если необходимо признать неравенство возраста и положить его в основание неравенства в правах великой важности, то как же не признать на том же основании неравенство пола? Но есть ли оно в действительности? Есть положения, которые крайне трудно доказывать, потому что они не требуют доказательства по всеобщей очевидности. Все частности физического устройства указывают на физическое неравенство того и другого пола. Эта истина, признанная повсюду, во всех веках и народах и при всяческих обстоятельствах, повсюду вызвала и существующее, общеизвестное разделение труда между мужчиной и женщиной. Все это факты, которых не может не признать закон и общественное мнение. Иной вопрос: в каком смысле признать его и к каким различиям должно оно вести в законном положении мужчины как мужчины и женщины как женщины?
Возьмем пример. Мужчина подвергается обязательно военной службе. Начинается война – производится мобилизация. Следует ли подвергать ей и женщину наравне с мужчиной? Кто мне скажет, что следует, с тем больше и говорить нечего, потому что всякая аргументация невозможна. Но кто соглашается, что не следует, тот, стало быть, признает необходимость неравного отношения, основанного на коренном неравенстве; а если в одном случае есть это признание, то какою чертою его ограничить?
Возьмем другой пример – воспитание, дело великой важности и для государства. Следует ли мальчиков воспитывать вместе с девочками и учить одинаково? Учить ли мальчиков шитью, домоводству, кухонному искусству? Станут ли девочки играть в крикет, грести и бегать наравне с мальчиками? Кто скажет – нет, тот уже признает неравенство пола и допускает неравенство воспитания.
Идем дальше, к центральной точке всего вопроса – к браку. Брак – один из тех предметов, которых не может обойти ни закон, ни нравственное мнение. Как же тому и другому надлежит смотреть на брак: как на договор между равными или как на договор между более сильной и менее сильной или слабой стороною, предполагающей по некоторым предметам необходимое подчинение слабейшего сильнейшему?
Я утверждаю, что первое мнение будет основано на обманчивом предположении и непременно ведет к самой жестокой несправедливости относительно женщины. Если стороны равны, то неизбежно допустить, что брак, подобно всякому договорному сообществу, может быть произвольно разрушен. Проповедники прав женщины чрезвычайно старательно обходят этот деликатный вопрос.
Нет и спора, что муж не вправе обращаться с женою, как с рабою подвластною, и суровое обращение может быть законным поводом к разводу. Совсем в ином смысле возникает вопрос о повиновении между супругами, состоящими в наилучшем отношении взаимной любви, и нисколько не нарушает этого чувства, точно также как на корабле начальственное право капитана нисколько не препятствует ему быть в близком дружеском отношении со старшим офицером. Возьмем хоть такие вопросы домашнего быта: как нам устроить образ жизни? Знакомиться ли с такими и такими людьми? Решаться ли мне, мужу, на такое-то предприятие, и если решусь, переезжать ли нам на житье в другое место? Отдать ли сына в коллегию? Посылать ли дочерей в школу или взять гувернантку? Куда готовить сыновей? По множеству подобных вопросов самые согласные супруги могут расходиться в мнениях.
Как поступить в этом случае? Я утверждаю, что жена должна поступиться своим мнением; должна повиноваться мужу и действовать так, как он решит, точно так же как на корабле, когда капитан отдает приказ рубить мачты, старший офицер обязан исполнить приказание, хотя бы не согласен был и хотя бы разумел морское дело лучше капитана. Смотреть на эту обязанность, как на унижение, как на обиду – вот в чем зло, вот что обличает не дух достоинства и мужества, а низкое, недостойное, мятежное расположение духа, расположение, разрушающее в жизни все, ради чего стоит жить на свете.
В основании его лежит такая мысль, что низко уступать свою волю другой воле, и в этом я вижу корень всего зла, отрицание силы, без которой невозможна ни в чем совокупная деятельность. На какое бы дело люди ни соединились для совокупной деятельности: сшить ли пару сапог, управлять ли государством – нет ни малого, ни великого дела, в котором кому-нибудь одному не принадлежала бы власть решать, сила последнего слова. Это и значит – власть приказывать и повиновение.
* * *
Смутное понятие о всеобщем равенстве определеннее всего выражается в теории политического равенства. Бесспорно, в течение последних поколений во всем мире совершается преобразование, ведущее к дробному разделению политической власти. Господствующая теория правления проповедует, что всякому должно принадлежать политическое право голоса, что этими голосами должно быть избираемо законодательное собрание и что это собрание должно управлять общественными делами посредством доверенных людей, которые сохраняют власть, пока пользуются его доверием. Эта теория развивается и утверждается все более и более. Ясно как день, что она господствует и, по всей вероятности, будет еще долго господствовать над умами.
Как посудит о ней разумный человек со здравым смыслом? Я совершенно понимаю, что ее следует обсуждать критически, как всякий факт, беспристрастно, со всех сторон; но вот чего не могу понять: как возможно питать к ней чувство энтузиазма и благоговения. А энтузиастам этой системы нет числа и меры. Возьмите лист любой газеты, просмотрите любую книгу политического содержания – повсюду, за немногими исключениями, встречают успехи демократии, приближение всеобщей подачи голосов с чувством, близким к религиозной восторженности. Этого восторга я не признаю.
Укажу на обстоятельство, обыкновенно оставляемое без внимания. Пишите какие угодно законы, устанавливайте всеобщую подачу голосов в силе непреложного завета – все-таки от равенства будет так же далеко, как и прежде. Окажется, что политическая власть переменила только форму, а сущность ее та же. Раздробите ее на множество маленьких кусочков, что из этого выйдет? Только то, что кому удастся сложить как можно более этих кусочков в одну кучу, тот и будет над всеми властителем. Править будет тот, кто тем ли, другим ли способом явит себя самым сильным человеком. Если правление военное, те качества, которые являют человека великим воином, сделают его владыкой. Если правление монархическое, власть будет зависеть от тех качеств, которые монарх полагает в советнике, военачальнике, администраторе. В чистой демократии владыками будут те люди, у кого в руках скрытые пружины движения, со своими друзьями; но между ними и между их избирателями все-таки будет столь же мало равенства, как между военачальниками или министрами и всеми подданными монархии.
Перемены в форме правления изменяют значительно условия властительства и очень мало действуют на сущность его. В одну эпоху – сильный характер, в другую – хитрая ловкость, в иную – деловое искусство, у одних – красноречие, у других – умение пользоваться ходячими в обществе понятиями и прилагать их к практическим целям – вот что в разные времена дает тому или другому человеку способ взобраться на плечи к своим ближним и направлять их в ту или другую сторону; но во все времена и при всех обстоятельствах толпы, ряды и кучи людей идут за тем или другим предводителем, кто соединит их в свою команду.
Коротко сказать, подразделение политической власти не имеет никакой существенной связи с равенством точно так же, как и со свободою. Хорошо ли оно или дурно, благодетельно или вредно – это вопрос сам по себе и может быть решен только по соображению действия и последствия, производимого учрежденьем.
Я не обсуждаю этого вопроса; я настаиваю только на одном обстоятельстве, которое обыкновенно проходят мимо, потому что оно не нравится, глаза колет: именно то, что народные учреждения, каковы бы ни были их красные стороны, имеют сторону слабую и крайне опасную, так что никоим образом не стоят того слепого поклонения и восторженного восхваления, которым обыкновенно приветствуют их водворение.
* * *
Знаю, что нет возможности бороться с этим потоком, который стремится по всей Европе, и отказываюсь бороться. Снялись высоты и волны и всех и все уносят с собою; но кого уносит могучее течение, тому, по крайней мере, да будет позволено молчать и не петь хвалебного гимна божеству сорвавшегося потока.
Меня возмущает всеобщая подача голосов, потому что она извращает закон, в который я глубоко верю, закон истинного и естественного отношения между мудростью и безумием. Мне кажется справедливым, чтобы разумные и добрые люди властвовали над безумными и злыми.
Итак, я не понимаю такого состояния, в котором единственное назначение разумных и добрых людей будет проповедовать своим согражданам; в котором каждому без различия предоставляется делать, что угодно, и каждому дается отмеренная порция верховной власти в виде голоса. Когда говорят мне, что следствием всего этого должно быть господство разума над силою, мне слышится во всем этом самая дикая фантазия, которая когда-либо овладевала умами в человеческом множестве.
Братство
Философы с давнего времени занимались анализом нравственной идеи и отыскивали источник нравственного начала в человеке. Стоики с Зеноном остановились на той мысли, что источник нравственного начала – разум и добродетельная жизнь есть не что иное, как жизнь, сообразная с природой; счастливая жизнь есть не что иное, как жизнь нравственная, с устранением всякого действия чувственных побуждений.
Эта система оказалась и в теории, и на практике несостоятельною. Попытки исправить ее и дополнить предпринял Эпикур. По его мнению, побуждения действий человеческих имеют свой источник не в разуме, а в чувствах и все добродетели выводятся из одного основания – из пользы. Вследствие того, заключил он, разум вовсе не служит источником добродетели, а правилом жизни служит желание. Эпикур имел в виду не чувственное только желание, не желание минуты, но высшее, духовное желание, направленное к благополучию или счастью, в высшем и общем его значении.
Так Эпикур путем очищенного желания доходил до одинакового с Зеноновым учением идеала жизни, сообразной с природою, в которой полагалось счастье. Несостоятельною оказалась и эта система наравне с системою стоиков, потому что ни в той, ни в другой не было места особому нравственному побуждению природы человеческой и сознанию нравственного долга.
Ничто не ново под луною. Эпикурову учению суждено было возродиться в наше время в новейшей системе утилитаризма. Милль явился проповедником утилитарного начала, долженствующего, по мнению его, служить заменою начала нравственного. Основанием его служит не сознание личного долга, а мысль, направленная ко всеобщему благополучию. Затем признается уже ненужным решение вопросов о добре и зле, о нравственном и безнравственном.
«Основанием утилитарной нравственности, – говорит Милль, – служит социальное чувство в человечестве, желание быть в единстве с подобными себе. Оно есть в природе человеческой начало великой силы и способно усиливаться с течением времени. Социальное состояние так естественно, так необходимо, так обычно человеку, что он и вообразить себя не может иначе как членом общественного тела.
Всякое условие, существенное для социального состояния, мало-помалу прививается к сознанию человека о том состоянии, в котором он родился и которое составляет судьбу человеческого существа. Общение же между людьми (кроме отношений раба к господину), очевидно, возможно при том лишь условии, чтобы принимаемы были в соображение общие интересы всех и каждого. Общение между равными может существовать тогда только, когда интересы всех и каждого принимаются в соображение равномерно. С каждым поколением люди приближаются все больше и больше к такому состоянию, в котором иначе и жить невозможно, как на условиях такого равенства…
Укрепление социальных уз при здоровом развитии общества усиливает в каждом отдельном человеке личное побуждение соображаться во всем с благосостоянием всех прочих членов общества. Мало-помалу само чувство его отождествляется с мыслью об общем благосостоянии, и эта мысль приобретает значение инстинкта».
* * *
Между тем, что такое благосостояние или счастье, об этом не может быть единства в общем мнении. Счастье – понятие в высшей степени неопределенное, и основывать на этом смутном понятии всеобщую систему нравственности – значит строить здание на песке.
Но и законодатель, и моралист, и всякий человек, кто бы ни был, расположен заботиться о благополучии своем и друзей своих больше, чем о всеобщем благополучии. Милль настаивает на том, что «всякий должен по строгой справедливости относиться к своему и к общему благополучию так же безразлично, как бы он был в качестве стороннего беспристрастного зрителя». В действительности же можно сказать, что жизнь каждого человека есть постоянное отрицание такого беспристрастия: почти всякий проводит жизнь свою в соображении способов к устройству благополучия себе и своим близким, не вводя притом ни в какой расчет благополучие прочих людей. Даже больше того: такова природа человеческая, что в ней невозможно отличить и отделить личные мотивы от социальных. Всякий раз, когда мы хотим сделать другим приятное, мы сознаем, что это нам самим приятно, и оттого происходит наше желание. Человек так тесно привязан к собственному центру, что, говоря об отношениях его к самым близким людям, приходится употреблять термины, означающие ощущения личного довольства или недовольства. Человек по природе не может отрешиться от своего я, так же как не может отделиться от своей тени.
Человечество есть тоже я, написанное огромною буквой, и любовь к человечеству означает вообще ревность к моему понятию о том, чем должны быть люди и как должны жить. Кто не любит родного своего брата, которого видит, способен воображать, что любит своего двоюродного брата, который где-то далеко живет, которого ни разу не видел и никогда не увидит. Нельзя отрицать действительные факты: себялюбие есть природный источник, из которого происходят все, и самые широкие формы человеческого благоволения, из которого берет свои основы самая филантропия.
Странно заблуждается Милль, когда думает, что это натуральное чувство благоволения к себе и к своим людям может само по себе постепенно изменить характер, возвыситься в чувство общего благоволения к роду человеческому и в этом виде даже получить значение новой религии, столь глубоко проникнутой этим чувством, что Милль даже опасается, как бы оно со временем не послужило к ущербу личной свободы! Нет, это мечта. Утилитарная нравственность не может сама в себе утвердить свою санкцию: ей потребна внешняя, высшая санкция.
Эту санкцию она может найти только в религии, то есть в определительном сознании религиозного факта, в сознании бытия Божия и будущей жизни; сама по себе она не в состоянии быть религией, обязательной для всего человечества. Нам трудно и представить себе в нынешней обстановке такое состояние духа, в котором нет не только положительной веры в Бога и будущую жизнь, но нет даже и сомнительного предположения возможности Бога и будущей жизни.
Мы не можем вполне рассудить о последствиях безбожия по действиям людей, которые воспитаны в той вере, что есть Бог, или выросли посреди народа, верующего в Бога; но если б такое состояние было, то в нем по необходимости изменились бы совершенно нравственные понятия, и особенно представления человека об отношении его к другим людям. Допускаю, что некоторые люди по особенным качествам духовной своей природы могли бы остаться при нынешнем нравственном сознании; но меня нисколько не восхищает та новая религия, которую эти люди могли бы себе составить из правил простой нравственности.
По моему мнению, расположение и способность к принятию такой религии обличают не силу, а слабость духа и почти неизбежно соединяются с самообольщением. Как бы ни была совершенна такая натуральная религия, она не может вести человека далее той черты, на которой начинается самопожертвование.
* * *
В ежедневной жизни и в общих понятиях мы не смущаемся вопросами о всеобщем братстве. Простой человек рассуждает так простым смыслом: «Я желаю добра себе, своему семейству, друзьям своим. Я предан благу своего отечества. Я стараюсь делать добро всякому, кому случится. Но если в течение жизни встретятся мне люди, которые захотят обойтись со мною или с близкими моими по-вражески, я знаю, что по-вражески обойдусь с ними. Покажите мне известное лицо с известным делом, и я скажу, кто он: друг мне или враг».
Но поклонник натуральной религии братства не может говорить так. Он повинен любить все человечество. Пусть он объяснит мне, почему. Но объяснить это он не может. Не может потому, что сам он, по большей части, отвергает решительно единственный факт, на котором могло бы утверждаться такое учение, а именно то, что Бог сотворил всех людей и велел им любить друг друга. А как без этого заставить людей любить друг друга, понять невозможно. Вот в чем состоит коренное самообольщение доктрины.
Требуется чудо. Нас хотят уверить, что это чудо может совершить сила прогресса и цивилизации. Говорят, что с умножением капиталов всякого рода, с развитием физического знания, с всеобщим распространением удобств жизни непременно усилится и чувство взаимного благоволения. В действительности же происходит совсем противное. Все направление новейшей цивилизации клонится к тому, чтобы человеку удобно было быть одному в своем положении и устраивать свои собственные интересы; а с развитием свободы и равенства это чувство непременно должно усиливаться.
С уменьшением всякого стеснения до наименьших размеров все люди станут приближаться к одному плоскому уровню, и в каждом человеке будет уменьшаться способность возбуждать и привлекать воображение и чувство. В таком состоянии общества будет, без сомнения, великое множество митингов всякого рода и филантропических ассоциаций, но мало будет возбуждений для патриотизма или для духа общественного.
Много было высказано общих мест о том, что чувство патриотизма слабеет по мере распространения роскоши и комфорта; но во всех этих речах гораздо больше правды, нежели в тех общих фразах, которые ныне повсюду слышишь об усилении любви к человечеству с распространением цивилизации. Бесспорно, цивилизация ведет к тому, что людям становится ненавистна сама мысль о страдании или нужде как в своем лице, так и в лице всякого кого бы то ни было. Цивилизация располагает людей рассуждать и говорить друг с другом о чужих делах в духе взаимного сочувствия и учтивости с комплиментами, а от времени до времени – с великим негодованием и яростью; но от этого расположения до любви очень еще далеко.
По правде сказать, род человеческий – совокупность такая громадная, такая разнообразная, так мало известная, что невозможно любить его действительною повальною любовью. Можно разве вообразить, что любишь некоторых воображаемых его представителей, которые при ближайшем рассмотрении оказываются олицетворенною нашею мечтою.
* * *
Братство не может быть религией. Религии не может составить само по себе ни одно свойство человеческой природы, ни одна страсть человеческая. Отдельное свойство может быть в религии только одним из многих деятелей. Если предоставить людей себе самим, их свойства, желания и страсти рано или поздно найдут себе какой-нибудь уровень. Устроится как-нибудь общий быт, социальное учреждение. Измените относительную силу той или другой страсти, изменится так или иначе и социальное устройство.
Все это не есть еще религия. Религия означает установление и общее признание определительного учения о человеческой жизни и о взаимных отношениях людей между собою и к миру, такого учения, которое должно быть руководством для жизни.
Религия непременно должна заключать в себе не один только элемент чувства, но и фактический элемент; фактический элемент и составляет существенную основу, на которой утверждается чувство и которою само свойство его определяется. Без этого основания религия быть не может. Возьмем четыре образца верования.
1) Веруйте во все то, что содержится в Символе Веры. Веруйте и живите по этой вере.
2) Един Бог и Магомет пророк его. Живите, как велел Магомет.
3) Всякое бытие есть зло, и кто познал глубину духа, того все желание – освободиться от бытия. Вот вам правило жизни: если будете жить так, освободитесь скоро.
4) Бесконечно могущественное верховное Божество всех вас устроило в касты и каждой касте дало свои правила для жизни. Вас ожидают страшные казни, если будете жить не так, как вашей касте положено. Вся природа исполнена невидимых сил, пребывающих в разных предметах естества. Поклоняйтесь им и молитесь.
Вот религии в собственном смысле слова. Каждая из них представляет систему, в самой себе заключенную, полную, содержит положительные правила, могущие служить практическим руководством для жизни. Ни одного из таких положений не может выставить учение, которое Милль называет верховною санкцией нравственности. Все, что из него можно выжать, состоит в следующем: «Любите все человечество. Ныне уже действуют такие побуждения, которые рано или поздно, когда-нибудь приведут людей к тому, что они будут любить друг друга».
Это можно назвать добрым советом, можно назвать пророчеством, но это не религия. Если человек не примет совета, не поверит пророчеству, слова остаются праздными. В них нет вовсе нудящей силы, a масса людей всегда и повсюду состояла из упорных или, по крайней мере, равнодушных относительно всякой религии. Чтобы придать этим словам нудящую религиозную силу, иного средства нет, как совокупить их с положительным утверждением факта, относящегося к человечеству и к человеческой жизни.
Какой же такой факт совокупит с этими словами гуманитарная религия? Разве что такой: род человеческий есть огромное соединение пузырей, которые поминутно лопаются и исчезают. Никто этих пузырей не создавал и никому неизвестно, откуда они явились. О, пузыри! Любите друг друга с нежностью! Пожалуй, это тоже религия своего рода, но какая жалкая!» Станем есть и пить, ведь умрем завтра»!»Не будь слишком праведен: зачем губить себя»?
Кто мой брат? Этот вопрос прямо зависит от другого вопроса: есть ли Бог, промышляющий о человеческом обществе, есть ли Провидение? Если нет, нравственность есть простой факт, не более. Некоторые правила внешнего поведения фактически способствуют человеческому благополучию. Верховною санкцией этих правил служит личный вкус каждого. Но если есть Провидение, нравственность – уже не простой факт, она становится законом.
Вера в Провидение означает, что и физический мир, и нравственный мир одинаково входят в сферу сознательного устройства и расположения; что люди, члены мира нравственного, выступают за предел материального мира, в котором поставлены, и что закон, возложенный на них, есть добродетель, то есть навык действовать по началам, направленным к благополучию людей вообще, и в особенности к тем видам благополучия, которые имеют отношение к пребывающему, вечному элементу человеческой природы…
Из двух систем одна не дает никакого, другая дает рациональное объяснение сознанию, что добродетель есть долг человека. Если закон добродетели – закон Божий, то быть добродетельным есть долг. Где нет законодателя, там нет закона, где нет закона, там не может быть долга, хотя может быть особенное природное расположение делать то, что относилось бы к долгу, когда бы был закон.
Расположение это может быть и наследственное; но во всяком случае когда человек сознает, что чувство долга в нем – не более как фактическое свойство, не имеющее прочной основы, и что оно стесняет его, неудобно для него, ему очень легко от него освободиться…
* * *
Итак, человеку надо справиться со следующими вопросами: что ты думаешь о себе? Что ты думаешь о мире? Признаешь ли ты себя просто машиною и свое сознание – результатом механических сил? Мир представляется ли тебе просто существующим фактом и ничем кроме того? Вот вопросы, на которые всякий обязан себе ответить.
Это загадки сфинксовы: каким путем ни пойдем, непременно встретимся с ними. Если решаемся вовсе оставить их без внимания и без ответа – наша воля. Если даем ответ нерешительный – опять наша воля, но и в том и в другом случае – наш и страх…