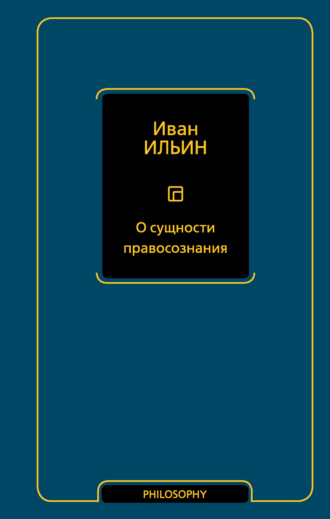
Иван Ильин
О сущности правосознания
V
Если мы попробуем теперь взять любезность в ее полном социальном составе, то мы увидим, что она образует в общественной жизни самостоятельный, единый по своему внутреннему смыслу слой переживаний, имеющий свое особое «назначение» и свою судьбу.
Назначение, или, если угодно, целесообразное значение любезности, выяснится с особенной наглядностью, если мы станем на точку зрения экономии сил. Тогда любезность предстанет перед нами как средство, содействующее осуществлению известной цели, но требующее само для своего осуществления затраты сил и энергии; причем затрата этой энергии хотя и не ведет еще непосредственно к главной цели, но дает в общем счете значительную экономию сил, устраняя возможность других, нецелесообразно вторгающихся в жизнь явлений и процессов. Любезность по самому смыслу своему не есть «главное» и существенное в общении; люди общаются не для того, чтобы выбирать в общении взаимно приятную форму, а наоборот: они стремятся к взаимно безболезненной форме проявлений для того, чтобы общение могло иметь место вообще и притом с возможно большей продуктивностью. Любезность есть средство, содействующее продуктивности общения, в чем бы эта продуктивность ни состояла: в заключении торговой сделки, в интересном ученом споре, в органическом совместном творчестве или в той легкости и эстетичности времяпрепровождения, о которой с такой прозрачной глубиной говорит Зиммель[10]. В пределах социальной философии эта продуктивность получит, конечно, высшее значение и содержание, любезность окажется на службе у верховных целей человеческой совместности и ее эмпирические конфликты явятся как бы слабой прелюдией к трагедии моральных столкновений. Для социолога же характер этой продуктивности может быть безразличен. Всякое общение, как мы указывали, имеет известную окраску тяготы и неприятности; оно несет вместе с собой известные трения, которые всегда могут послужить разъединяющим началом. В противовес этому разъединяющему началу в общественной жизни выработалось начало противоположное – стремление или забота, парализующая неблагоприятную для общения тяготу формы. На выработку приятной или любезной формы уходит известный запас творческой энергии – этической, художественной и интеллектуальной, ибо любезность требует, чтобы над ней отвлеченно и практически работали, культивировали ее. Но этот запас, который, казалось, благоразумнее было бы вложить в самую сущность, в самый процесс живого содержательного общения, затрачивается вполне целесообразно на выработку формы, несовершенство которой слишком укрепило бы отталкивающие силы в общественной жизни. Этот обходный путь типичен для целого ряда общественных процессов: формальная дисциплина становится центром усилий потому, что отсутствие ее погубило бы даром гораздо большее количество энергии, чем то, которое может быть поглощено ее выработкой (срв. хотя бы организацию армии).
Формальный характер любезности и ее подчиненное положение как средства освещают далее те факторы, под влиянием которых слагается ее судьба.
Для того чтобы любезность могла существовать, не вырождаясь в пустую форму и не перерождаясь во что-то более глубокое, необходимо, чтобы общественная группа была связана общим уровнем интересов, уже достаточно зрелых и сильных, но все же неспособных поглотить индивидуальные стремления в единстве общей цели.
Если общение не вызывается существенным и устойчивым интересом сторон, то любезность не имеет почвы для образования. Так, если интерес недостаточно важен и существен, то в общении нет того ядра, того центра и содержания, бережливое отношение к которому могло бы повести к выработке любезности. Вокруг этого центра, связывающего стороны общностью интереса, завязывается и вырастает живое общение, которое, в свою очередь, должно быть осознано как важное, для того чтобы стала вырабатываться самостоятельно его форма. Любезность как общественно целесообразный процесс не может сложиться вокруг пустого места. Точно так же существенный, но преходящий интерес может повести самое большее лишь к отдельному единичному приспособлению в общении, но не к выработке любезности как типичного ряда явлений. При этом интерес должен не только существовать в действительности, но и быть осознан с большей или меньшей отчетливостью. Значение этих условий отражается своеобразно, но определенно и в общественном сознании. Так, например, люди, не тонкие от природы, проявляют любезность только по отношению к тем, в ком они нуждаются, и, таким образом, нелюбезность становится у них своего рода проявлением независимости; поэтому в общении простая нелюбезность часто импонирует людям. Этим вообще объясняется, почему всюду, где любезность не получила морального освящения, высшие нелюбезны с низшими, и с этой точки зрения римское «servus est res»[11] оказывается психологическим мотивом, характеризующим тактику всякого привилегированного класса.
Но если недостаточная связанность или объединенность группы в лице принадлежащих к ней индивидуумов делает любезность еще не нужной, то значительная и тесная скрепленность группы приводит нередко к ее исчезновению. Здесь есть две типичные возможности: прикрепленность людей друг к другу может быть или недобровольной, или добровольной и любовной.
В первом случае бывает так, что любезность исчезает и уступает место обратному – нежеланию или неспособности взаимно приспособляться в общении, и это приводит к вырождению и упадку формы общения. Для каких бы целей ни устанавливалось принудительное объединение людей, сущность его всегда сводится к недопущению добровольного перегруппирования, к ограничению свободного, «естественного» отбора и организации людей. И вот именно сознание невозможности создавать свое общение, выбирать и подбирать себе желанную среду, сознание прикованности надолго или навсегда к известной тесно сплоченной среде способно значительно усиливать отталкивающие силы в общении. Чем меньше такая принудительно скованная группа, чем теснее и всестороннее самая скованность, чем дольше она продолжается и чем безнадежнее перспектива в будущее, тем решительнее действуют и скорее обнаруживаются отталкивающие силы. В маленькой группе душевное содержание людей исчерпывается быстрее и общение теряет прелесть новизны, особенно если самый принцип принудительного объединения установлен с внешней механичностью, не улавливающей «естественную» сопринадлежность людей, если общение является вообще затруднительным или же взаимное приспособление оказывается совсем невозможным (так бывает, напр., в тюремных камерах, устроенных для двоих, троих). Разносторонняя, давящая прикрепленность людей друг к другу, не оставляющая никаких отдушин и побочных, удовлетворяющих исходов, может в худших случаях бросить людей друг на друга с силой необычайного озлобления. Напротив, в больших группах, даже при сравнительно тесной соединенности (напр., общие камеры), всегда остается возможность новых, не бывших еще сочетаний в общении, и душевное содержание группы исчерпывается несравненно медленнее; люди не так скоро приедаются друг другу, и любезность как форма не исчезает, как раньше, оттого, что приходит в упадок содержательное общение. Можно сказать, что любезность для своего существования требует известной свободной подвижности элементов в группе, и поэтому понятно, что она более характерна для городского общения, где атмосфера разнообразнее, подвижнее, предоставляет больше свободного выбора и где в то же время самое общение экстенсивнее, поверхностнее и удовлетворяется не слишком глубоким приспособлением.
Во втором случае, когда тесная объединенность людей является добровольной и любовной, – любезность является уже слишком слабым и бледным проявлением, она естественно перерождается в деликатность и любовность, растворяется в них. Объединение группы оказывается, с одной стороны, настолько интимным, как, напр., в семье, что забота о взаимно безболезненной форме общения проистекает из более глубоких источников; с другой стороны, настолько прочным и устойчивым, что отсутствие приятной формы не может само по себе отозваться роковым образом на существовании общения в группе. Но именно в таких случаях развитие общения в группе может привести к явлениям регресса. Любовность, поглотившая любезность и упразднившая ее самостоятельное существование, незаметно испаряется иногда с течением времени и исчезает, а группа продолжает существовать по-прежнему, причем общение в ней оказывается чуждым как любовности, так и любезности; в таких случаях развитие отношений возвращается к первоначальному пункту полной несвязанности, и это отчасти объясняет те необычайно грубые отношения, которые можно видеть в иных распадающихся семьях.
К своеобразным последствиям ведет, далее, такое в высшей степени типичное сочетание обстоятельств, когда в известной группе, объединенной общностью интересов и быта, складывается общение, протекающее не на почве основного общего интереса, связующего группу. Любезность сохраняет тогда свою целесообразность, но лишь в узких пределах данной группы. Так, например, любезность светских салонов является, несомненно, целесообразной, поскольку она облегчает общение между членами группы и тем поддерживает ее единство. Она служит вспомогательной спайкой группы, и смутное сознание этого содействует тому повышенному значению, которое ей придается. Отчасти поэтому, отчасти за недостатком серьезного и ценного содержания любезность сама по себе получает понемногу значение самостоятельного жизненного содержания. Форма общения приобретает тогда не соответствующее ей значение; обнаруживается боязнь оказаться или хотя бы «показаться» нелюбезным, и этому соответствует заметная склонность прощать многие проступки против морали и не прощать проявления нелюбезности. Гедонистический момент выступает в любезности на первый план, любезность становится как бы особым критерием хорошего и дурного, и требования ее, срастаясь нередко с внешностью церемоний и ритуалов, приобретают значение своего рода «категорических императивов». Получается впечатление, будто люди действительно общаются только для того, чтобы выбирать в общении взаимно приятную форму. В результате группа сковывается формальным единством «приятного общения», поддержание которого может стать одной из ее важнейших жизненных задач.
Но целесообразность такой любезности ограничивается пределами данной группы, и это обнаруживается в том, что внутренней сплоченности ее соответствуют замкнутость и оторванность, отчужденность ее от других групп. Чем сильнее любезность культивируется в пределах группы, тем решительнее она нарушается за ее пределами. И это относится как к случаям ее формального культивирования, так и к случаям поглощения ее недрами любовности (семья). Заносчивость старого родовитого дворянства вошла в поговорку, и термин «аристократ» получил в широких нивелированных кругах оттенок осуждения. С этой точки зрения становится отчасти понятной бросающаяся в глаза грубость современных немцев, у которых сильно развито семейное начало, и всем известная галантная любезность французов, у которых семья находится в сравнительном упадке.
Любезность как широко распространенное явление предполагает, таким образом, в обществе известное среднее состояние между сильным расчленением и сплоченным единством. Можно было бы сказать, что всякое углубление любезности, т. е. качественный рост ее, идет неизбежно в ущерб ее количественному применению и распространению. То ослабление любезности на многолюдном званом вечере, о котором мы упоминали выше, характерно и за пределами одновременного общения. Чем более индивидуализирующего творческого учета дается в общении каждому, тем меньшее число людей может получить вообще хоть что-нибудь, и наоборот. Альтруизм, расходящийся в виде любезности по маленьким количествам, оказывается обыкновенно неспособным вылиться в единый порыв, как бы сгореть в едином воплощении. Человек, не умеющий оградить себя от этих непрестанных и поистине бесконечных маленьких отдач, не умеющий выработать в своей душе некоторой скорлупы безразличия к обыденному и эмпирической безжалостности, рискует довести любезность до абсурда и обессилить душу в процессе незаметного раздробления. В этой-то невозможности сохранить силу альтруистического порыва при увеличении числа тех предметов, на которые он распространяется, и лежит утопизм проекта Платона – сроднить всю общину посредством сокрытия истинного отцовства и материнства. Искусственный прием «растяжения» семьи до пределов общины не привел бы к желанному результату, ибо нельзя дать многим ту же углубленную индивидуализацию в общении, как одному или нескольким. Таким образом переоцененная и разросшаяся любезность может лишить личную жизнь желанной интенсивности, и здесь нельзя не вспомнить о том, что общение, как бы оно ни было прекрасно, не есть высшая задача человека; те места в девятой книге этики Аристотеля, в которых он исповедует и оправдывает «эгоизм» как служение разуму, останутся навсегда классическим призывом к самоограждению от чрезмерных притязаний общения.
Теперь будет понятно, если мы скажем, что каждый из нас может рассматриваться как центр, вокруг которого располагается целый ряд концентрических кругов со все уменьшающейся индивидуализацией в общении[12]. Чем ближе периферия к центру, чем меньше радиус круга, тем интенсивнее наше чувство к людям; но зато тем меньшее число людей получает в общении с нами глубокую индивидуализацию любовности. С каждым дальнейшим кругом, с каждым увеличением радиуса наше учитывающее отношение становится менее глубоким и интенсивным и распространяется зато на большее число людей. Если примириться условно с грубым схематическим делением, то можно было бы принять следующие основные круги: круг интимной, исключительной любви, круг любовности, круг деликатности, круг любезности, круг вежливости, неопределенно обширный круг приличия и, наконец, самый неопределенный и обширный круг индифферентного отношения, в котором возможно даже несоблюдение приличия. Проследить отношение между атмосферами этих кругов и установить в нем как общую закономерность, так и специальные уклонения, кажущиеся исключениями, мы здесь не можем. Укажем только, что чем культурнее человек и чем тоньше его внутренняя организация, тем решительнее средние круги – деликатности, любезности и вежливости – впитывают в себя крайние круги – приличия и индифферентности; что в истории каждого индивидуума можно отметить типичное и последовательное приобщение его различным кругам, порядок которого может значительно, но закономерно меняться (в зависимости от условий воспитания, ближайшей семейной атмосферы и других факторов), обнаруживая в среднем тенденцию к концентрической системе. Переход от преобладания интимного круга семьи, через постепенное увеличение его кругом дружбы, к преобладанию широкого круга любезности и вежливости и затем, с одной стороны, обратная тяга к интимному средоточию, но уже не пассивно воспринятого (в лице отца и матери), а создаваемого активно круга новой семьи, с другой стороны, тенденция к сохранению пройденных кругов – все это влечет за собой целый ряд интересных перипетий в судьбе любезности. Замечательно также преобладание у маленьких детей переживаний первого круга (прикованность к отцу и матери) и переживаний последнего круга (невинная чуждость приличию), тогда как переживания средних кругов (деликатность, любезность, вежливость, приличие) должны лишь постепенно заполняться у них в процессе воспитания.
Именно в этом подобии общения системе концентрических кругов вскрывается наглядно компромиссная природа любезности. Любезность есть компромисс, с одной стороны, между абсолютным альтруизмом и абсолютным эгоизмом, и в этом отношении она подобна «милостыне», подаваемой на улице; с другой – между категорическим долженствованием и психической невозможностью; с третьей – между служением ценностям общения и служением ценностям объективного ряда (научное, художественное творчество). Между требованием христианской морали «отдай каждому максимум» и голосом эгоистического инстинкта «все для меня» любезность намечает средний путь: она двигается в известных переходах и градациях, создает средние круги и примиряет «все» и «ничего» в «кое-что» или «немного», повинуясь долженствованию и ссылаясь в то же время на психическую невозможность; она предлагает также известный исход в конфликте между ценностями общения и «объективными» ценностями, вырабатывая своего рода формальный альтруизм, не претендующий на основное ядро души и поддающийся сравнительно широкому применению. И в этом по-своему обнаруживается ее целесообразность: индивидуум, с одной стороны, получает возможность отдаваться внутренней культивирующей дух работе, довольствуясь этим суррогатом любовного слияния с конкретным множеством людей; с другой стороны, он сохраняет с этим множеством такое касание, которое дает ему возможность углубить и реализовать то или иное оказавшееся ценным отношение.
Но так как компромиссный исход всегда несет на себе свет обеих противоположностей, которые нашли в нем свое примирение, то любезность, естественно, получает значение некоторого предчувствия, в слабых и бледных чертах рисующего какие-то отдаленные перспективы новых социальных слияний. Трудно говорить определенно об этих смутных невозможных возможностях, но свет их, несомненно, чувствуется иногда в проявлениях того лика любезности, который обращен в сторону творческого углубления общения.
Понятия права и силы. (Опыт методологического анализа)
Глава I
Вопрос о соотношении права и силы заслуживает со стороны юриста особого внимания по целому ряду оснований. Так, с одной стороны, эта проблема играет видную роль в истории политических учений. Самые различные философские, политические и юридические доктрины подходят к ней с тем, чтобы дать ей то или иное истолкование и решение, и если мы возьмем только те учения, которые так или иначе сближали силу и право, то перед нами развернется длинный ряд воззрений, нередко совершенно разнородных в целом и по существу. В той или иной модификации мы найдем это сближение и у софистов, и у пламенного республиканца Макиавелли, и у монархомахов (Гюбер Ланге), и у натуралиста Гоббса, и у Спинозы, и у крайнего индивидуалиста Штирнера, и у реакционера Галлера, и у социолога-правоведа Гумпловича, и у многих других. Идейный материал столетиями накоплялся вокруг этой проблемы, и сущность ее приобретала постепенно все более утонченный и запутанный характер. Наличность сходных решений в самых различных доктринах должна была бы уже сама по себе приковать внимание исследователя к этой проблеме.
К этому присоединяется далее практическая жизненность этого вопроса. Самые различные социальные группы заинтересованы в том или ином практическом разрешении конфликта между правом и силой, в установлении так называемого «правильного» соотношения между этими моментами общественной жизни. И хотя практический интерес, заставляющий бороться за торжество «бессильного права» или сочувствовать «бесправной силе», и способен вообще вызвать теоретический интерес к проблеме, но важность и необходимость предварительного научного аналитического освещения вопроса далеко еще не сознается в достаточной мере.
Теоретическая сложность проблемы является третьей особенностью ее, способной приковать к ней внимание исследователя. Среди юристов-теоретиков проблема соотношения права и силы может и должна вызывать интерес в представителях всех отдельных дисциплин: вопросы об определении права, о его образовании, применении и содержании близки каждому юристу-теоретику как таковому, а проблема эта находится в теснейшей связи с этими вопросами. Самые понятия права и силы принадлежат к числу самых трудных и сложных в истории научной мысли вообще. Сказать что-нибудь исчерпывающее об этих понятиях является до сих пор делом недосягаемой трудности и может вообще показаться, что проблема их соотношения должна быть отнесена к числу так называемых «проклятых» проблем.
Поэтому, если мы берем на себя задачу сказать нечто по ее поводу, то не потому, чтобы она казалась нам по существу своему несложной, а решение ее легкодостижимым; но потому, что некоторые общие точки зрения, складывающиеся за последнее время в философии и философии права, намечают, по нашему мнению, тот путь, движение по которому позволит, может быть, внести в эту проблему необходимый аналитический свет.
Чтобы стать на этот путь, необходимо прежде всего признать, что историко-философскому и практическому освещению ее должен непременно предшествовать теоретический анализ. Сущность воззрения на право и силу не может быть понята ни в одной исторически известной нам доктрине, если мы не сделаем предварительно попытки определить эти понятия в терминах современной науки: ибо процесс уяснения отживших учений состоит по существу в переводе их на язык современных понятий. Точно так же критическая оценка этих учений предполагает, что проблема так или иначе теоретически решена, что «правильное» соотношение понятий найдено. Наконец, политик-практик, говорящий о «силе права» и о «праве силы», должен ясно и отчетливо представлять себе все внутреннее, логическое значение этих словосочетаний, и именно теоретический анализ понятий может поставить на должную высоту осмысленности его рассуждения и действия. Итак, юристу, кто бы он ни был, необходимо начать с теоретического рассмотрения проблемы.
Проблему о соотношении права и силы мы попытаемся поставить здесь с общеюридической точки зрения. Это значит, что мы отвлечемся от тех постановок, которые она получает в отдельных юридических дисциплинах и от тех специальных вопросов и затруднений, которые возникают для нее в отдельных науках, и подойдем к ней с точки зрения общего правоведения. На первый план, след., у нас станет анализ понятий силы и права, но притом в одном определенном отношении.
Изолируем нашу постановку еще полнее и точнее. Мы отвлечемся от вопроса о том, что в этическом или социально-философском отношении ценнее – право или сила; или что чему должно служить в политическом отношении, т. е. право ли есть цель, а сила – средство, или наоборот. Мы оставим также в стороне вопрос о том, что над чем торжествовало в процессе исторического развития и что являлось причиной и что следствием. Нас интересует не то, что должно быть в общественной жизни, и не то, что было в исторической действительности. Все эти вопросы высокой важности и интереса. Но не в них сейчас центр тяжести. Анализ понятий силы и права мы попытаемся произвести здесь с точки зрения общей методологии юридических дисциплин.
Современное правоведение все с большей определенностью и принципиальной осознанностью приходит к признанию того, что право само по себе есть некоторое в высшей степени сложное и многостороннее образование, обладающее целым рядом отдельных сторон и форм «бытия». Каждая из этих сторон входит в сущность того, что именуется одним общим названием «права», но каждая из них представляет по всему существу своему нечто до такой степени своеобразное, что предполагает и требует особого, наряду с другими, специального определения и рассмотрения. Если общее изучение опускает хотя бы одну из этих сторон, то оно не полно; если изучение одной из них бессознательно сливается с другой, то возникает опасность методологических смешений, могущих иногда прямо обесценить все исследование. Эта точка зрения признает таким образом, что нет единого универсального и исключительного способа изучения права, который вытеснил бы и заменил все остальные, сделал бы их излишними, ненужными. Способов изучения права много; каждый из них в отдельности ценен, необходим и незаменим. Вера в спаси-тельный методологический монизм падает и уступает место принципиальному признанию методологического плюрализма[13].
Все правопознание начинает с этой точки зрения осложняться, расслояться, дифференцироваться. Юридические дисциплины начинают разделяться уже не только по характеру регулируемых отношений, а по способу рассмотрения права как такового. Подходя к праву во всей его сложности со своей особой точки зрения, каждая методологически обособленная дисциплина выделяет в нем именно ту сторону, которая важна для нее, и именно эту сторону объявляет существенной в праве, составляющей искомую сущность права. Получается не одно определение права, а несколько, может быть много, и ни одно из этих определений не может и не должно претендовать на исключительность. Все они вместе и только сообща могут притязать на исчерпывающее постижение сущности права.
Между этими отдельными способами рассмотрения, между этими методологическими рядами правопознания может быть большая и меньшая близость и отдаленность. Взаимная отдаленность отдельных рядов может доходить до совершенной и полной, кардинальной оторванности. И именно в этом последнем случае понятия, принадлежащие к одному ряду, стоят по отношению к понятиям другого ряда в плоскости, по всему существу своему несходной, иной, чужеродной. Есть ряды правопознания, которые не только не дают ответа на вопросы, возникающие и стоящие в другом ряду, но даже не терпят их перенесения и постановки в своей сфере. Такие ряды должны быть охарактеризованы как ряды взаимно индифферентные в методологическом отношении, и сознание этой индифферентности есть одна из ближайших и важнейших задач всего правоведения в целом. Так, напр., историческое рассмотрение и социологическое рассмотрение правовых явлений родственны друг другу, иногда сливаются и переливаются друг в друга; точно так же философская оценка правовых явлений и политико-телеологическое рассмотрение их – имеют некоторые точки соприкосновения. Но, напр., догматическая разработка норм права, имеющая целью построить систему юридических понятий, и социологическое объяснение правовых явлений движутся в двух совершенно различных плоскостях, в известном отношении могут стать в положение взаимно индифферентных рядов, а в определенных вопросах обнаружить даже прямую противоположность.
Заметим еще, что принцип методологической индифферентности отнюдь не имеет и не должен иметь того смысла, что известные явления общественной жизни не стоят друг с другом ни в какой реальной связи, не обусловливают друг друга или не определяют. Сущность этого принципа состоит в известном, условно допускаемом, познавательном приеме логического отвлечения от одних сторон права при рассмотрении других сторон его. Конкретнее и определеннее говоря: познавая право в логическом ряду, мы отвлекаемся от тех сторон его, которые характеризуют его как реальное явление. Здесь противопоставляются не два явления, а, с одной стороны, право как явление, с другой стороны, право как нечто, рассматриваемое вне плоскости реального. Но по существу об этом дальше.
Произвести тот анализ понятий права и силы, который мы здесь предпринимаем, значит постараться обнаружить, есть ли возможность того, что известный методологический ряд правоведения или, может быть, несколько методологических рядов окажутся сродными той научной плоскости, в которой стоит понятие силы. И если окажется, что такое сродство или скрещение этих методологических рядов вообще возможно, то нам останется проследить и указать, для каких именно рядов это возможно и насколько. Тем самым решится и коррелятивный вопрос: есть ли у права такая сторона, которая никоим образом не терпит методологически сближения или тем более отождествления его с силой. И если есть, то какая это сторона. Это и даст нам возможность сказать: возможно ли вообще рассматривать право как силу, допустимо ли это вообще с методологической точки зрения, и если допустимо, то в каких оттенках обоих понятий это возможно. Тогда только у нас окажется в руках и критерий для понимания и критической оценки всего ряда исторически известных нам доктрин, сближавших или тем более сливавших понятия силы и права. Тогда только и политик-практик получит возможность представить себе с полной ясностью и отчетливостью, в каких значениях право становится силой и какие меры могут содействовать или препятствовать праву в осуществлении его функции.







