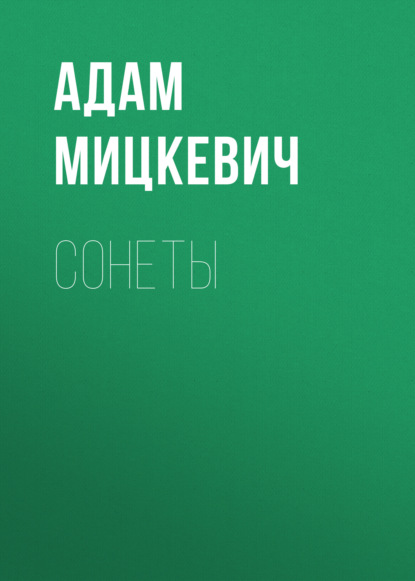Полная версия:
Адам Мицкевич Стихотворения
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

Адам Мицкевич
Стихотворения
ГОРОДСКАЯ ЗИМА
Прошли дожди весны, удушье лета,И осени окончился потоп,И мостовой, в холодный плащ одетой,Не режет сталь блестящих фризских стоп.Держала осень в заточенье дома.На вольный воздух выйдем, на мороз!Кареты лондонской не слышно грома,И не раздавит нас металл колес…Приветствуй горожан, пора благая!И неманцев и ляхов одарят,Сердца их для надежды раскрывая,Улыбки тысяч фавнов и дриад.Все радует, бодрит и восхищает!Пью воздуха холодную струю,Которая дыханье очищает,Или на хлопья снежные смотрю.Одна снежинка плавает в стихии,Другая – та, что тяжелей, – легла.А эти улетят в поля сухие.Вилийские побелят зеркала.Но кто в селе глядит, как заключенный,На лысый холм, на одичавший долИ на деревья рощи обнаженной,Ветвям которых снегопад тяжел,Тот, опечален небом, ставшим серым,Бросает край уныния и льдаИ, променяв на Плутоса Цереру,В карете с золотом летит сюда.Пред ним – гостеприимные ворота.Дом краской и резьбою веселит.Он забывает сельские заботыВ кругу очаровательных харит.В селе, едва редеет мгла ночная,Церера сразу встать неволит нас.Здесь – солнце жжет, зенита достигая,А я лежу, не размыкая глаз.Потом в нанкине, наскоро надетом,Я, модной молодежи круг созвав,Болтаю с ними, – и за туалетомПроходит утро, полное забав.Один в трюмо себя обозревает,Бальзам на кудри золотые льет;Другой стамбульский горький дым вдыхаетИли настой травы китайской пьет.Но вот уже двенадцать бьет! СкорееНа улицу – и я уже в санях.И росомаха или соболь, грея,Игольчатые на моих плечах.Я в зал вхожу, где, восхищая взоры,Стол пиршества для избранных накрыт.Напитков вкусных, здесь полны фарфоры,И яства разжигают аппетит.Коньяк и пунши в хрустале граненом,Столетний зной венгерского вина;Мускат по вкусу дамам восхищенным:Он веселит, однако мысль – ясна.Блестят глаза, а чаши вновь налиты…Остроты, шутки, пылкие слова…Не у одной из дам горят ланиты,В огне от нежных взглядов голова.Но вот и солнце никнет. Сумрак синийТаит благодеяния зимы.Сигнал разъезда дали нам богини.И лестницы гремят. Уходим мы.Тот, кто слепому счастью доверяет,Вступает, фараон, в твою странуИли искусно кием управляетСлонов точеных гонит по сукну.Когда же ночь раздвинет мрак тяжелыйИ в окнах вспыхнет множество огней,Кончает молодежь свой день веселый,Шлифуя снег полозьями саней.[1817]
ВОСПОМИНАНИЕ
СонетЛаура, помнишь ли те сладостные годы,Когда вдали от всех бытийственных заботДруг другом жили мы, не числя дней полет,Забыв докучный мир для счастья и свободы.Ты помнишь этот сад, аллей живые своды,И речку, и покой ее прозрачных вод,И нег ночных приют – обвитый хмелем грот,Где проникали к нам лишь голоса природы.А месяц озарял то груди белизну,То золотых волос роскошную волну,И ты божественным влекла очарованьем.В подобные часы восторгам нет конца,Уста встречаются, блаженство пьют сердца,И вздоху вторит вздох, признания – признаньям.[Начало 1819]
* * *
Уже с лица небес слетел туман унылый.Ты, кормчий, встань к рулю, пускай шумит ветрило,Режь соль седых валов рукой неутомимой.Простерся океан вдали необозримый.Пусть не страшит тебя ни дальняя дорога,Ни хрупкая ладья, ни то, что нас немного.Подумай, ведь Язон, когда отплыл впервые,Доверясь прихотям обманчивой стихии,Корабль имел простой и сердце не из стали,Ведь ад и небеса герою угрожали,Но, цель высокую поставив пред собою,Он все преодолел, добыл руно златое.Нам тоже ведомы высокие дерзанья,Должны воздвигнуть мы на новом месте зданье,И, если подвиги не меньшие нас манят,Пусть аргонавтов нам живой пример предстанет.Они, из отчих гнезд впервые вылетая,Предприняли поход, опасностью играя.Мы их наследники. Страшиться мы не вправе.Преодоленный труд – всегда ступенька к славе.Там каждый отдавал свой труд на пользу дела:Кто – мощь, кто – зоркость глаз, кто – голос лирысмелой.И мы поступим так. Ведь мы не бесталанныИ сил не лишены. Свершим же путь желанный.Стремиться будем все, – один свершит, быть может:Неравной мерою дары даются божьи.Но там, где поприще огромно и прекрасно,Неравенство сие не может быть опасно.Счастлив, кому венок достанется лавровый,Он увлечет других стремленьем к славе новой,Но пусть тщеславие не завладеет нами,Гордится дерево не листьями – плодами,Нам станут гордостью полезные деянья,Не пальма первенства и не рукоплесканья.Пусть каждый говорит, как воины ахеян:«Я – сильный, дайте мне доспех потяжелее».Пока, спеша к мете, поставленной на бреге,Ты не опередил других в могучем беге,До той поры народ, на состязанье глядя,Спокойно ждет того, кто подлежит награде,Но если уж других ты позади оставил,Гляди, чтобы навек себя не обесславил.Спеши, дабы тебя опять не обогнали,Нажав в последний миг, отставшие вначале.Ведь если выше ты других себя считаешь,О славе более высокой ты мечтаешь,Победу одержав в публичном состязанье,Услышать всякий рад толпы рукоплесканье,Но, если полубог сразил в бою кентавра,Что значит для него простой венок из лавра!Пусть примет больший труд, в ком громче голос чести,Себя позорит он, когда стоит на месте!К вам, братья славные, я обращаю взоры,Вы, дня грядущего надежда и опора,Кого природа-мать любовно наградила,Взмахните крыльями, взлетите с новой силойЗатем, чтоб, досягнув вершины величавой,По-братски звать других в поход зановрй славой!А нам, которые идут за вами следом,Высокий ваш полет укажет путь к победам.В соревновании с могучими мужамиГордились юноши десятыми венками.Мы тоже их возьмем. Пусть зависть не хлопочет.Червь равнодушия в нас воли не подточит.Свободен наш союз, нам принужденье чуждо.Труд – наше божество, девиз священный – дружба.Настанет день, когда, соединивши руки,Девиз воспримут наш и нас восхвалят внуки.Но, право, нужно быть тупицей недалеким,Чтоб сделать доступ к нам открытым и широким.Строенье лишь тогда не рушится веками,Когда строители кладут отборный камень.И чтобы замысел не оставался словом,Пусть исполнители пройдут отбор суровый!Кротонец, в таинствах природы умудренный,Покровом призакрыл лик правды обнаженнойИ, добродетели подъемля жезл крылатый,Не всем ученикам давал названье брата.Так было некогда на таинствах Орфийских,И на мистериях так было Элевзинских.Немало жаждущих попасть в наш круг стремится,Но разные у них намеренья и лица.Личину с них сорвав, увидим их в натуре:Отыщем среди них волков в овечьей шкуре!Кто жадностью томим, а кто из горделивых,Кто ищет не друзей, а слуг, покорных, льстивых.Коль цели хитростью достигнуть не способны,Пред нами предстают и мстительны и злобны.Иной из прихоти иль в детском увлеченьеЗа непосильное берется порученье,Но, лишь с малейшею преградою столкнется,Легко он, как дитя, с мечтою расстается.Когда к нам доступа таким не будет людям,Когда в согласии стремиться к цели будем,Все личные забыв обиды и расчеты,На благо общее положим все заботы,Тогда скажу, учтя минувшего страницы:Нам будут подражать, нам будет чем гордиться![Сентябрь 1818]
ПЕСНЬ
Пусть счастьем глаза загорятся,Чело нам украсит венок,Обнимемся все мы по-братски,Сойдемся в веселый кружок!Пускай к нам не ведают входаОбманы, предательство, лесть;Здесь чтится высоко свобода,Отчизна, наука и честь.Мы руки друг другу протянем,Откроем друг другу сердцаИ помыслы, чувства, желаньяПоведаем все до конца.Здесь сгинут страдания тениСредь песен, утех, развлечений.Кто стал нашим братом и другом,В труде, средь веселых забав,В зеленом венке и за плугомПусть помнит всегда наш Устав.Пусть он вдохновится присягой,Что здесь согласился принесть,Всю жизнь защищает с отвагойОтчизну, науки и честь!Дойдем мы, хоть трудной дорогой,До счастья, когда подадутВсе руки друг другу. ПомогутНам смел ость, согласье и труд![Октябрь 1819]
ОДА К МОЛОДОСТИ
Без душ, без сердца! Толпа скелетов!О дай мне, молодость, крылья!И я над мертвым взлечу мирозданьем,В пределы рая, в обитель светов,Животворящий восторг изведав,Где над цветеньем и созиданьемЗлатые сонмы картин открылись!Пускай годами отягощенныйСклонился старец, уставясь в землю,Потухшим оком едва объемляМир омраченный.Ты, молодость, прах юдоли отринешь,Взлетишь и, светлым взглядом ширяя,Все человечество ты окинешьОт края до края!Глянь вниз! Там ночь воздвиглась немая,Планету своим зловонным потокомВсю обнимая.Глянь вниз! Над этой заводью гнуснойКакой-то гад всплывает искусно,Он служит рулем себе и флагштокомИ прочих мелких зверушек топит,Всплывает кверху, нырнет обратноИ снова сух в волне коловратной.А если жалкий пузырик лопнет,Нам дела нет, что проглочен глубьюГад себялюбья!О молодость! Сладок напиток жизни,Когда его с другими поделим!Так лейся же, опьяняй весельем,Избытком золота в сердце брызни!Друзья младые! Вставайте разом!Счастье всех – наша цель и дело.В единстве мощь, в упоенье разум.Друзья младые! Вставайте смело!Блажен и тот на дороге ранней,Чье рухнет в битве юное тело,Другим оно служит ступенью в брани.Друзья младые! Вставайте смело!На скользких срывах по кручам этимСила и слабость на каждой грани.На силу силой, друзья, ответим,А слабость сломим в юности ранней!Кто в младенчестве гидру задушит,Подрастет, – взнуздает кентавров,Изведет из Тартара души,Удостоится вечных лавров.Досягни, куда глаз не глянет!Чего разум неймет, исполни!Орлим взлетом молодость прянет,Обнимая перуны молний!Други, в бой! И строем согласнымВсю планету вкруг опояшем!Пусть пылает в единстве нашемМысль и сердце пламенем ясным!Сдвинься, твердь, с орбиты бывалой,С нами ринься на путь окрыленный,Ты припомнишь возраст зеленый,С кожурой расставшись завялой.Когда в мирах былой полунощиВражда стихий пировала бурно,Одно ДА БУДЕТ господней мощиОбосновало закон природы,Запели вихри, помчались воды,Возникли звезды в тверди лазурной,Так и сейчас еще ночь глухая,Все человечество в алчных войнах.Чтобы любовь благая воскресла,Встанет из хаоса Дух полыхая;Пускай зачнет его юность во чреслах,А дружба взрастит в объятьях стройных.Ломают льды весенние воды.С ночною свет сражается тьмою.Здравствуй, ранняя зорька свободы!Солнце спасенья грядет за тобою![Декабрь 1820]
ПЕСНЬ ФИЛАРЕТОВ
Эй, больше в жизни жара!Живем один лишь раз:Пусть золотая чараНедаром манит нас.Живей пускай по кругуВеселых дней подругу![1]Хватай и наклоняй до дна,Чтоб жизни глубь была видна!К чему здесь речь чужая?Ведь польский пьем мы мед:Нас всех дружней сближаетПеснь, что поет народ.У древних нам учитьсяНе в книжном прахе гнить:Как греки – веселиться,Как римляне – рубить.Вон там юристы сели.И им бокал поставь:Сегодня – право силы,А завтра – сила прав.Сегодня громогласьеСвободе невдомек:Где дружба и согласьеМолчок, друзья, молчок!Кто гнет металл и плавит,Тот плавит времена:Нам, чтоб его прославить,Пусть Бахус даст вина!Тому из мудрых слава,Кто в химии знал вкус:Тончайшего составаПил мед любимых уст.Измеривший дороги,Пути небесных тел,Был Архимед убогим:Опоры не имел.А нынче, если двигатьЗадумал мир Ньютон,У нас пусть спросит выходИ этим кончит он.Чертеж небесной сферыДля мертвых дан светил,Для нас же – сила верыВернее меры сил.Затем, что – где пылаетПорывов сердца дух.Зря мерку снять желают!Единство – больше двух!Эй, больше в жизни жара!Живем ведь только раз:Вот золотая чара,Не медли, дорог час.Кровь стынет в бедном теле,Поглотит вечность насИ взор затмится Фели,Вот филаретов сказ.[Декабрь 1820]
ТОСТЫ
Как наша прожила б планета,Как люди жили бы на нейБез теплоты, магнита, светаИ электрических лучей?Что было бы? Пришла бы сноваХаоса мрачная пора.Лучам – приветственное слово.А солнцу – громкое ура!Но что лучи иль искры света,Когда морозом мир объятИ сердце наше не согрето?Привет теплу! Теплу виват!Теплу и свету люди рады,Но ветер их разъединит,Не встретив на пути преграды.Магнит сюда! Ура, магнит!Теперь мы тесный круг составимПри ярких солнечных лучахИ электричество восславимС бутылкой лейденской в руках![1821?]
ПЛОВЕЦ
О море бытия, каким ты страшным стало!Когда я отплывал, твоя сияла гладь,Теперь же ночь кругом и грозный грохот вала!Нельзя ни дальше плыть, ни к берегу пристать:Что толку руль сжимать рукой усталой?Блажен, на чьей ладье за кормчих – КрасотаИ Добродетель! В час, когда вскипают аолныИ меркнет день, к пловцу небесная четаСклоняется: в руках у этой кубок полный,Свой чудный лик приоткрывает та..И с Добродетелью одной к утесу славыВы сможете доплыть: стоический бальзамВас дивно укрепит на подвиг величавый;Но если Красота не улыбнется вам,Вы доплывете, пот пролив кровавый.Однако Красота, лик показавши свой,Нередко средь пути коварно улетает,Надежды лживые все унося с собой;О, как тогда душа, осиротев, страдает,Великою охвачена тоской!С небесной Красотой в мучительной разлуке,Бороться с бурею, в кромешной тьме тонуть,Хвататься в ужасе за каменные руки,Валиться замертво на ледяную грудьКто долго выдержит такие муки?Пресечь их так легко! Одним движеньем яНавек спастись бы мог от бурь и тьмы дремучей…Иль тем, кто брошены в пучину бытия,Ни сгинуть целиком в волне ее гремучей,Ни вырваться из недр ее нельзя?Мне люди говорят, что все живое тленно:..Но голос веры им во мне не заглушить,Да, звездам духа чужд закон природы бренной,Им до конца времен светиться и кружитьПо необъятной глубине вселенной.Кто крикнул с берега? Ужели до сих пор,– О братья и друзья, вы на скале стоите?Ужель в такую даль ваш долетает взор..И до сих пор вы сквозь туман глядите,Как я держусь, волнам наперекор?Коль в бездну брошусь я, отчаяньем гонимый,Упреков тьма падет на голову моюОт вас, которым туч громады еле зримы,Чуть слышен ураган, терзающий ладью,И мнится, что гроза проходит мимо.Вам не понять того, что пережито мнойТут, на моей ладье, – под громом, ливнем, градом!Судья нам – только бог: кто хочет быть судьей,Тот должен быть во мне, а не со мною рядом.Я дальше поплыву, а вы, друзья, домой.17 апреля 1821 г.
К… Фон Д… РИСУЮЩЕМУ ДЛЯ МЕНЯ ПОРТРЕТ МАРИИ
Тебе, картин творец, обязан большим я,Чем вечному творцу живого бытия.Лишен я счастья был злбкозненной судьбою,Оно моим глазам возвращено тобою.Я с детства ничему учиться не хотел,Но если бы твоим искусством я владел!Судейского крючка забота вечно гложет,От мертвецов живых отбиться врач не может,Паллады верный жрец избрал науки путь,Всю жизнь уча тупиц, он надрывает грудь.Желудку мудреца частенько роздых нуженВсё лавры на обед да похвалы на ужин!И лишь вокруг тебя прелестный вьется рой,И ты для милых дам – прославленный герой.В глаза красавицы ты взоры погружаешь,Искусною рукой ее изображаешь.Прекраснейших картин немало в мире есть,По праву среди них твоим хвала и честь.Твой гений наградят наградой несравнимойТо юноши восторг, то нежный взгляд любимой.Тобой похищен лик возлюбленной моей,Ты отдал мне его, художник-чародей,Благодарю, она теперь навек со мною,В ее глазах тону я сердцем и мечтою,И волшебство твое меня освободитОт пытки тягостной, что разум мой мутит.К воображаемой стремился я богине,Для сердца, глаз и рук она живая ныне.[1821]
ИОАХИМУ ЛЕЛЕВЕЛЮ НА ОТКРЫТИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В ВИЛЕНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, б ЯНВАРЯ 1822 ГОДА
Belorum causas et vitia, et modos
Ludumque Fortunae gravesque
Principum amicitias et arma…
Periculosae plenum opus aleae
Tractas et incedis per ingnes
Suppositos cineri doloso…
H or at., L. II, I
[Причина войн, их ход, преступления,
Игра судьбы, вождей союзы,
Страшные гражданам, и оружье,
Об этом ныне с гордою отвагою
Ты пишешь, по огню ступая,
Что под золою обманно тлеет.
Гораций. Оды, кн. II, I]
(Перевод Г. Церетели)
Давно взыскуемый питомцами своими,Лелевель славный, вновь предстал ты перед ними,И снова дружеской ты окружен толпой,Глядящей на тебя, как на родник живой.Не тот, кто красными словцами щеголяет,Гордится, что его везде на свете знают,Что груз его трудов сгибает книгонош,Нет, не такой увлечь способен молодежь,А тот, кто славится высоких дум полетомИ средь своих слывет горячим патриотом.В том и другом пример, Лелевель, ты для нас:В науке и делах непогрешим твой глаз.Хоть молод ты еще, седым МафусаиламС тобою мудростью равняться не по силам.Не только у себя в стране ты знаменит.За рубежом ее хвала тебе гремит.О том, что твой приезд нам сделал солнце краше,Ладони и уста свидетельствуют наши.Как долго уходил из здешних зал домойБезрадостно наш слух, воспитанный тобой!Начни ж ученикам, тебе внимать готовым,Вновь чудеса являть своим волшебным словом,Из гроба поднимать искусством колдовскимЭлладу древнюю и стародавний Рим.Герои вновь живут и дышат, как бывало,С чела их сброшено Плутоново забрало,С груди, таившей дум проникновенных кладИ волю страстную, железный панцирь снят.Вот македонский вождь с творцом «Федона» рядом.В их думы и сердца мы проникаем взглядом.Тут искра яркая, там подвига зерно,А искре сноп огня родить порой дано,Зерну же вырасти в такого исполина,Которому равна вселенной половина.Античных гениев сильна над миром власть,Пред их величием должны мы ниц упасть;Лучами славы их, не знающей затменья,Озарены веков позднейших поколенья.Но только ли герой велик? Велик и тот,Кто подвиги его до глубины поймет.Бывает, город вдруг, как камень, в бездну канет,Из вод огонь забьет, и тьма над миром встанет.Таких событий жив свидетель не один,Но мало кто умел дойти до их причин.Еще трудней найти свидетеля такого,Который бы сумел дойти до основного,Дороги, разумом указанной, держась:Какая между всех явлений этих связь?Как привести могла, единая причинаВ смятенье небеса, и землю, и пучину?Природу мертвую оставим и к живой,Стократ сложнейшей, взор теперь направим свой.Легко ли находить причин и следствий звенья– Там, где людских судеб царит переплетенье?Картина пестротой наш поражает глаз,Разноголосица сбивает с толку нас,А Истина за мглой скрывается густою,Лишь слабые лучи бросая нам порою.Но не доходит к нам и этот слабый свет.С рожденья слепы мы в теченье многих лет.Когда ж едва-едва мы обретаем зренье,Нас чужаки тотчас берут на попеченье:Очки нам подают, изделие их рук,И через них ясней мы видим все вокруг.Беда, однако, в том, что стали все предметыДля нас такого же, как эти стекла, цвета.Ошибки зрения, благодаря очкам,Переносить на мир с тех пор привычно нам.Мы – вечные рабы: не только в настроеньяхЗависим от других, но также и в сужденьях.Ребенок чувствует, как чувствует отец,Страдает от цепей обычая юнец.Нередко собственным гордятся мненьем люди;Нет, всосано оно из материнской грудиИли наставником посеяно позднейВ глубь сокровенную их молодых ушей.И все ж ты выдаешь любым своим движеньем,Что европеец ты, поляк происхожденьем.А солнце Истины горит для всех равно,Различия племен не ведает оно,Всех одинаково своим ласкает светом,Жар посылает всем, живущим в мире этом.Кто хочет Истине святой в лицо взглянуть,Тот должен знать: один к ее Познанью путьУм от влияния освободить чужогоИ Человеком быть в высоком смысле слова.К такой работе бог историков зовет,Но многим ли она по силам? Нет, лишь тот,Кому в удел дало благое провиденьеСверх пары крепких рук и крылья вдохновенья.Способен воспарить над торжищем страстей,Над интересами, делящими людей,Угадывать, где взрыв готовится на свете,Иль погружаться в мрак умчавшихся столетий.В их темной глубине копая, он на светВыносит не один бесценный самоцвет.Лелевель, мы тобой гордимся, сознавая,Что родила таким тебя земля родная.Внимает истину из уст твоих народО том, что было, есть, что нас в грядущем ждет.Людское общество впервые наблюдаемНа землях, занятых Двуречья древним краем.Среди равнин, чья гладь не ведает препон,В один большой народ сложился ряд племен.Тираны в городах, стенами обнесенных,Уселись на спине селян порабощенных.Средь островов и бухт, прославленных навек,Поздней республику построил бойкий грек;Затем, что муравьем был схож своей природой.Грек мирмидонскою считал себя породой.Он, в городах чужих селясь, их украшал,Чужие божества в свои преображал;Кумирни Красоте воздвиг и милой ВолеДвум дочерям небес, непознанным дотоле.Их духом вдохновлен, душой открыт и смел,Он мыслил, воевал, любил, учил и пел.Но вот мидиец меч свой поднял над землею,Восточный идол в страх ввергает все живое.Толпа невольников, гонимая бичом,Из-за Кавказских гор несется напролом,Все на своем пути топча, круша и руша;Ксеркс море захватил, ордою залил сушу,Но с тучки греческой сорвался гром, и вотРассеялась орда, на дне мидийский флот.Уйдя от гибели, не покорясь невзгодам,Грек к азиату в дом отправился походом.И там он на коврах персидских опочил,И меч заржавленный из рук он уронил,И был в железо взят в своем бессилье сонномПастушьим племенем, волчицею вскормленным.Привыкли Ромула драчливые сыны,Отвагой воинской и хитростью сильны,Соседей истреблять, в годину же покояОни крепили дух для нового разбояИль меж собой дрались, пока их в общий бойНе призывал расчет на выгодный разбой.Но вот у забияк противников не стало,И в праздных мышцах нет упругости бывалой.Над миром Рим царит, над Римом же тиран,Уже не воин Рим, а дряхлый великан.Кто жизнь опять зажжет в его остывшем теле?Вы, чада пылкие страны седых метелей!Вот гордый сюзерен, верхом на скакуне,С копьем и четками в руках и весь, в броне,Небес и госпожи своей слуга, вассаловПод кров готический созвал. Там звон бокалов,В руках у дам венки, хор лютней с пеньем схож,И копья яростно ломает молодежь.Нежнее, чем у нас, у них сердца под сталью:Впервые с горных круч они Любовь призвалиСердечную, какой не ведали в свой векЖрец духа иудей и в плоть влюбленный грек.Когда грозила смерть законности основам,Они их рыцарским своим крепили словом;Чтоб кривды исправлять, в заморские краяПускались, в памяти прелестный взор тая;Из дальних стран они везли домой трофеиИль клали головы за веру в Иудее.В их замках между тем засели чернецы,Забрали в руки власть церковные отцы;Под выстрелами булл заколебались троны,Рим снова стал земле давать свои законы.Позднее короли при помощи штыковСмирили подданных и свергли чужаков.В краях, где издавна в почете просвещенье,Есть хартии свобод и прав у населенья.Такую хартию мы в Англии найдем,Такую даровал нам Ягеллонов дом.В других-же странах власть – примеров тутнемалоДворян-мятежников с крестьянами сравняла.Испанцу повезло: пустившись в океан,Достиг он берега богатых новых стран,Его сокровища растут, и с каждым годомОн все наглей грозит оружием народам.Его соперники дают ему отпорОткрыто иль войдя друг с другом в заговор,Но друг на друга все ж поглядывая косо,Всяк палку вставить рад союзнику в колеса.Всегда настороже с приятелями будь,При них не вырони из рук чего-нибудь.Коль мирно ты живешь и никому на светеНе хочешь повредить, милейшие соседиРассорят в доме всех и дом твой подожгут.К утру спасителей ватага тут как тут.Торговцы странами, народных слез менялы,Спасители крадут, что под руку попало;Заступник на врага разительно похож,Тебя обворовать обоим невтерпеж.Так шла в Европе жизнь, покуда над СекванойНе разразился гром вскипевшего вулкана.Созрела лава в нем: старинный произвол,Меж властью светскою и церковью раскол,Мечты мыслителей, горячих душ порывы,Рабов восставших злость на род дворян спесивый.Как древле из семян нечищеных на светПифоны родились, уродливы, как бред,Так из посева чувств и дум разноречивыхЗмий революции взошел на галльских нивах,Его ни побороть нельзя, ни в прах втоптать,Рождает мстителей земли любая пядь.Они встают толпой; они горят желаньемЖизнь по Платоновым построить начертаньям.Другие же казну сносили в новый дом,Чтоб с помощью ее разбогатеть потом;Врагов сломив, они пошли, мечом бряцая,И кровью истекли, чужую проливая.Там императором вчерашний консул стал,И польскую там кровь Домбровский проливал.Хотя уже давно в могиле исполины,Еще их кровь могла б плодотворить равнины.Однако что же я? Как смею воспеватьМоря, в которых мне не довелось бывать?Как смею, жалкий червь, к орлам себя причисля,Полету подражать твоей ученой мысли?Приди на помощь мне, ведь ты слывешь у насПервейшим среди всех историков сейчас,Ты ложь разоблачил бесчисленных писанийИ правду извлекал из самой лжи преданий,Кому ж, как не тебе, науки глубь видна,Кому прекраснее дарит плоды она?Нам, рукоплещущим тебе сегодня рьяно,Скажи, как на Парнас вознесся ты так рано?И взором ласковым нас примани туда,Откуда светишь ты, как кормчая звезда,Хотя и более достойными рукамиУвенчан ты, – прими венок, сплетенный нами,И погордиться тем нам разреши, любя,Что для него цветы мы взяли у тебя.[Январь 1822 г.]
БАЛЛАДЫ И РОМАНСЫ
ПЕРВОЦВЕТ
С небесной песней самой раннейПримчался жаворонок звонкий;Цветочек ранний на полянеБлеснул под золотистой пленкой.ЯЦветочек милый, рановато!Еще морозом полночь веет,Еще в дубравах сыроватоИ плесень на горах белеет.Прижмурь златые огонечки,Под матушкин подол укройся,Зубочков инея побойся,Страшна роса холодной ночки!ЦветочекКак мотыльки, родясь с рассветом,Мы к полдню гибнем. Больше счастьяВ одном апрельском миге этом,Чем в целых декабрях ненастья.Коль дар богам воздать ты хочешь,Друзьям своим, своей любимойВплети меня ты в свой веночек,И будет дар незаменимый!ЯСредь чахлых травок перелескаТы вырос, о цветочек милый;В тебе ни мощи и ни блеска,Так чем ты мил, цветочек хилый?Чем? У тюльпана есть корона,Весь облик лилии – державен,У розы – расписное лоно,У зорь – огонь… А ты чем славен?И почему ты полон все жеНадеждою несокрушимой,Что будешь ты всего дорожеМоим друзьям, моей любимой?ЦветочекТвои друзья мне будут радыВесны посланцу, ангелочку;Ведь дружбе блеска и не надо,Ей тень любезна, как цветочку!Достоин ли я доли этой?Ах, очи неземной МарылиЗа молодости первоцветыЛишь первой слезкой отдарили![Вторая половина 1820]