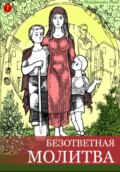Иван Александрович Мордвинкин
Эуа!
5. Знаю
Стас усиленно и принуждённо верил. Всеми своими мыслями.
Что вообще значит «верить?» Знать наперёд, что будет всё хорошо, потому что Бог милостив? Но сколько всего происходит ужасного! Даже с глубоко верующими людьми.
И Стас бродил по парку, рассматривал небо во всей его многосложной красоте. И бессмысленно описывал эту красоту себе, превращая видимую гармонию в словесную: готовил черновики и эскизы для Евы.
Ходил, смотрел и всеми силами «верил», внутренне талдыча своим мыслям другими своими мыслями, что всё будет хорошо.
Пока, наконец, не взорвался возмущением против этой безумной иллюзии.
– Нет! – воскликнул он, не сдержавшись и не обращая ровно никакого внимания на прогуливающиеся пациентов. – Не будет!
Не будет «хорошо» или «плохо»! Просто «будет». Но неизвестно, как именно оно будет. И что такое, это любимое всеми «хорошо»? Быть телесно здоровым идиотом на верхушке автомобильной эстакады, или лежать с проломленным черепом в больнице, где есть она? И быть счастливым, живым, наполненным светом, как неоновый фонарь.
Быть несчастной старухой, от которой отказались её взрослые и состоятельные дети и рыдать день и ночь, пока не нарыдаешь опухоль в мозгу? Или без этой части мозга радоваться узорам на тротуаре и прожить последние месяцы жизни в красоте?
Не бывает хорошо или плохо!
Есть просто жизнь. А право судить… Это то, что первые люди выкрали в раю. Адам и Ева! И напрасно, не научились люди этим пользоваться.
Когда Еву уложили на каталку и поволокли в операционную, Стас прорвался за ней, расталкивая шикающих санитарок.
Она услышала возню и его голос, протянула руку в пустоту, приподнимаясь на кушетке:
– Тау!
Впервые её голос был таким взволнованным и испуганным.
Перед возможным забытьём она хотела прикоснуться к нему.
Стас рванулся к каталке, не столько телесно, сколько душевно, потому что его схватили за халат, наброшенный на плечи. И он на мгновение завис в этом сдерживающем сплетении чужих рук, будто уперевшись в стену.
Потом вырвался из халата и успел дотронуться до неё, почти схватил её пальцы, скользнув своими по её ладони.
Его, наконец, остановил подоспевший охранник, больно вывернул здоровую руку, но Стас увидел что-то, чего лучше бы ему не видеть: Ева приложила свою ладонь, ещё хранящую тепло его прикосновения, к своему лицу, а потом к губам. Каталка вошла в предоперационную, двери на пружинах запахнулись, превратившись в белую стенку с двумя круглыми окошками, похожими на бессмысленные глаза.
Больше он её не видел.
Но этот жест потом терзал его душу, не давал никого покою и, Стас даже не задумывался, имеет ли он право ощущать сочувствие. Он рыдал от сочувствия, хотя беззвучно и бесслёзно. Да что там? Он молча орал во всё горло своей души, дрожащей в исступлении.
Неделю он слонялся по коридорам, докучал Валентине Павловне и главврачу. Но его пихали вон, грозились вызвать полицию.
Ева лежала после операции под замком. Это понятно, и это правильно.
Но у Стаса совсем не было никаких сведений, потому что ему не положено, потому, что он чужой человек. Потому, что все люди чужие в этом мире.
Правда, всё это позволяло его надежде питаться иллюзиями. Но и мучало жестоко.
– Что ты здесь всё болтаешься? – наконец, сорвалась Валентина Павловна, сгоряча раскрывая врачебные тайны. – Всё уже! Полмозга удалили, там пустая «тыква». Нету её.
– Как нету? Она умерла? – ужаснулся Стас, едва не потеряв сознание от этого внезапного откровения.
– Нет, не умерла. Но её больше нет! Понимаешь, о чём я? Иди к себе. Её нету нигде на всей земле! Только её овощ.
Мир поплыл вспять, как это случилось, когда он пришёл в себя после операции. Стены поползли вверх, а полы наскакивали на них, тоже желая сместиться повыше. Но, если на них взглянуть внимательно, они вставали на место, чтобы тут же опять поползти вверх.
Стас схватился за стену, и мир остановился.
Валентина Павловна усмехнулась, и довольная произведённым разрушением, пошла вдоль коридора по своим врачебным делам.
Дальше всё было, как в тумане. Стас в истерике кричал, бежал к палате Евы, стены ползли к потолкам, а руки хватали Стаса, чтобы вернуть его обратно в серую квадратно-кубическую коробочку.
И вернули.
Всё, что он успел увидеть в полураспахе двери, это только её руку. Кисть руки. Она лежала без движения. Бледная и на вид даже мёртвая. И такая родная!
Главврач вызвал отца, как плательщика, и тот долго молчал, сидя у кровати Стаса. А Стасик смотрел в потолок, в его 48 пенопластовых квадратов, шесть из которых были серыми, один жёлтым, а остальные белыми.
– Прости меня, – вдруг прошептал отец.
Стас оторвался от плиток и посмотрел на него ошарашенно. Даже с ужасом. Но ничего не сказал.
– Прости, сынок. Я был не прав, – отец глянул виновато из-под бровей. – Когда это с тобой случилось, знаешь… Когда это… Я понял, что сотворил всё это я. Я любил тебя, но я так решил…
Он вздохнул, сидя на стуле, согнулся над коленями, потом спрятал лицо в ладони и замолчал. Его седые волосы, разбосанные в причёску Энштейна дрожали на «ветру» кондиционера.
Мысли понеслись в голове Стаса со скоростью пригородной электрички, скрипящей колёсами Евиной коляски – образы замелькали, не успевая превратиться в слова. Ева, Ева. Ева! Отец. Виноват. Кто в чём вообще виноват? И когда всё это началось?
– Я уехал в монастырь, в Оптину Пустынь. Это далеко, под Калугой. Там я молился и бродил по лесу и вдоль реки. Неделю. Там река… И там такой лес! И там столько святых, мощи, мощи. Мученики. Я многое там понял, знаешь? – он усмехнулся и глянул застенчиво, будто собираясь признаться в какой-то безумной странности. – Бог есть!
Сначала Стас хотел усмехнуться, потом согласиться, но в итоге промолчал.
Отец положил свою ладонь на край его постели, на Евино место. И Стас непроизвольно отдёрнул свою руку, подобрав её к телу.
Отец заметил это движение. Он вообще был проницательным человеком. Бесчувственным только. Если это совместимо, вообще.
– Ты прости. Оно живёт во мне, это такое чувство жгучее… Ай, – он потёр сердце, сунув руку под пиджак. – Оно всегда со мной. Я искал, как мне его задушить, поэтому не позволял себе никаких чувств вообще. И я всегда старался быть идеальным. Во всём. С детства…
– Твои родители? – смущённый собственной смелостью спросил Стасик.
– Да. Мой папа, – отец опять глядел виновато, и Стасу от этого взгляда становилось не по себе. – Я, вот старый человек. Я понял, что старость даётся людям, чтобы они смягчились, стали добрыми. Даже злой старик куда мягче и добрее, чем он же в молодости. А папа… Он умер молодым и добрым стать не успел. Он всё время говорил, что я… Он ругал меня часто. Всегда! Он говорил, что я…
– Глупый? – помог ему Стас.
– Да. Что я тупой. Тупой, тупой! И я всю жизнь с этим сражался. Кандидатская, докторская… Потом эта должность. Всё для этого. Я вообще хотел, хех… учителем географии быть. И теперь вижу, знаешь, что мне всё так же больно, как будто вчера. Ничего не помогло! Ни-че-го!
Он замолчал и снова спрятал лицо в свои худые руки, «исписанные», как татуировками, синими рисунками вен.
– Боли не существует, – повторил за Евой Стас. Он не боялся сказать отцу что-угодно, если это что-то принадлежало Еве. Он бы не принял никакой критики в её сторону.
– Да. Да, наверное, – отец глянул на Стаса глазами, влажными от старческих слёз, которые всегда выглядят неестественными.
Стас поднялся, сел на край кровати, и они какое-то время сидели молча. Два «чужих» человека, душевно зависящих друг от друга, как два альпиниста, связанных одной верёвкой. Но попавших в общую группу случайно и совсем не знакомых друг с другом.
Наконец, Стас решился сделать шаг навстречу. Он положил свою руку на отцовское плечо, стараясь, однако ж, почти не касаться его. Слишком уж чужая это была территория. Даже больше, чем коляска той старушки, чем руки Ирины. Даже, чем жёсткие пальцы Валентины Павловны.
– Тут есть церковь неподалёку, – сказал Стас и поднялся, не дожидаясь ответа.
Отец встал вслед за ним и согласно кивнул.
Шли молча, и Стасик, натыкаясь взглядом на описанное для Евы, чувствовал, как естественные слёзы теснятся в его душе, как они рвутся наружу, во внешний мир. А мир дрожал вселенной трав, салатовыми листьями акаций, белыми её цветами, жёлтым тряпичным зонтиком у прилавка мороженщицы, беспорядочными паутинами интернет-проводов над дорогой.
В храме шла какая-то служба и, не имея нужды торопиться, они промолились здесь часа два. Большую часть этого времени Стас простоял на коленях. Закрыв глаза и отдавшись песнопениям, он без слов и мыслей глядел на Бога какой-то плачущей, ищущей утешения частью своей души. И, когда в окончаниях непонятных слов ему слышалось «Ева», перед ним проявлялся смутный образ молодой девушки, хохочущей от счастья быть.