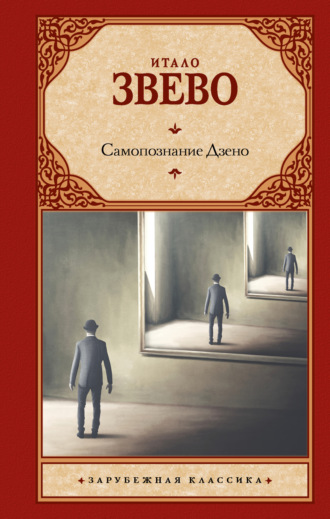
Итало Звево
Самопознание Дзено
V. История моей женитьбы
В представлении юноши из буржуазной семьи понятие человеческой жизни ассоциируется с понятием карьеры, а в ранней молодости карьера – это всегда карьера Наполеона. Причем для этого вовсе не обязательно мечтать сделаться императором: можно походить на Наполеона, и оставаясь гораздо, гораздо ниже. Содержание даже самой кипучей человеческой жизни можно уместить в самом элементарном на свете звуке – звуке набегающей на берег волны, которая, едва родившись, непрерывно меняется, покуда не умирает. Вот и я тоже ждал, что достигну своей высшей точки, а потом рассыплюсь в прах – как волна и Наполеон.
Вся моя жизнь звучала на одной и той же ноте, ноте довольно высокой – многие мне даже завидовали, – но невыносимо нудной. Друзья неизменно питали ко мне глубокое уважение, да и самому мне – с тех пор как я вступил в сознательный возраст – ни разу не пришлось переменить сложившегося у меня о себе представления.
Может быть, и мысль о женитьбе пришла мне в голову оттого, что я устал все время издавать и слышать одну и ту же ноту. Кто не испытал этого на себе, тот склонен придавать браку гораздо большее значение, чем он имеет на самом деле. Подруга, которую мы с вами выбираем, обновляет через детей свою собственную породу, улучшая ее или ухудшая; однако мать-природа, которая только к этому и стремится, но впрямую никогда бы нас к этому не принудила, потому что в ту пору мы меньше всего помышляем о детях, заставляет нас думать, будто от жены воспоследует обновление нам самим – забавное заблуждение, совершенно не подтверждаемое опытом! Люди живут потом бок о бок совершенно такие же, как и были, разве что ощутят неприязнь, если избранник их слишком на них не похож, или зависть, если он в чем-то их превосходит.
Интересно, что мое матримониальное приключение началось со знакомства с моим будущим тестем, которого я одарил своей дружбой и восхищением еще до того, как мне стало известно, что у него есть дочери на выданье. Из этого следует, что вовсе не сознательное решение направило меня к цели, о которой я еще и сам не подозревал. Совершенно забросив девушку, которая еще недавно казалась мне созданной для меня, я стал неразлучен с моим будущим тестем. Вот и не верь после этого в судьбу!
В моей душе жила неукротимая жажда новизны, и Джованни Мальфенти – столь непохожий на меня и на всех, кого я знал до сих пор и чьего общества и чьей дружбы добивался, – сумел ее утолить. Занятия на двух факультетах и долгий период праздности, который я также считаю очень для себя плодотворным, сделали меня довольно образованным человеком. Мальфенти же был просто крупный торговец, невежественный и энергичный. Но из его невежества проистекали его спокойствие и сила, и я смотрел на него с завистью и восхищением.
Мальфенти было тогда около пятидесяти, он отличался железным здоровьем и был невероятно огромен и толст: больше ста килограммов! Те немногие мысли, которые шевелились в его большой голове, были развиты им до такой ясности, продуманы с такой тщательностью и опробованы в таком количестве дел, что стали как бы частью его тела, его характера. Такого рода мыслями я всегда был очень беден и сблизился с ним, надеясь, что это общение меня обогатит.
В Тержестео [6] я зашел по совету Оливи, который сказал, что посещение биржи будет хорошим началом моей коммерческой деятельности и что, кроме того, я, может быть, разузнаю там какие-нибудь новости, которые ему пригодятся. Я выбрал стол, за которым главенствовал мой будущий тесть, и так никуда больше оттуда и не сдвинулся, ибо понял, что нашел наконец кафедру коммерции, которую так долго искал.
Он быстро заметил мое восхищение и ответил мне дружбой, в которой мне с самого начала почудилось что-то отеческое. Может быть, он сразу сообразил, чем все это кончится? Когда, вдохновленный примером его успешной деятельности, я заявил ему как-то вечером, что собираюсь освободиться от опеки Оливи и начать сам вести свои дела, он мне это не только отсоветовал, но показался не на шутку встревоженным. Я мог заниматься коммерцией, но при этом должен был крепко держаться Оливи, которого он прекрасно знал.
Он охотно делился со мной своими знаниями и даже начертал собственной рукой в моей записной книжке три заповеди, которые, по его мнению, обеспечивали процветание всякой фирме: 1) не обязательно уметь работать самому, но тот, кто не умеет заставить работать других, может считать себя погибшим; 2) единственное, о чем стоит сожалеть, – это об упущенной выгоде; 3) теория – это прекрасная и полезная вещь, но применимой она становится лишь тогда, когда дело уже ликвидировано.
Я знаю наизусть эти и множество других подобных правил, но они не пошли мне впрок.
Когда я кем-нибудь восхищаюсь, я тут же начинаю ему подражать. Подражал я и Мальфенти. Я пожелал стать таким же, как он, коварным, и мне показалось, что это мне удалось. Однажды я даже подумал было, что превзошел в хитрости его самого. Я решил, что обнаружил ошибку в самом способе, которым он вел свои торговые дела. И я сразу же ему об этом сказал, надеясь завоевать его уважение. Я остановил его, когда в Тержестео в споре со своим собеседником он обозвал его идиотом. Я обратил его внимание на то, что он напрасно, на мой взгляд, так откровенно дает понять, насколько он умнее всех остальных. Тот, кто по-настоящему знает толк в торговле, должен, по моему мнению, прикидываться простофилей.
Он поднял меня на смех. Иметь репутацию хитреца очень выгодно! Все идут к тебе за указаниями и при этом приносят самые последние новости; а ты за это снабжаешь их рядом прекрасных советов, истинность которых подтверждает опыт нескольких столетий, начиная со Средних веков. А иногда, помимо новостей, ты еще получаешь возможность что-нибудь продать. И наконец – найдя довод, который должен был окончательно меня убедить, он принялся орать во все горло, – тот, кто хочет выгодно продать или купить, тот всегда обратится именно к хитрецу. Что возьмешь с простофили? Разве что заставишь его пожертвовать своей выгодой; но все равно его товар всегда будет дороже, чем товар хитреца, потому что простофилю обманули уже в момент покупки.
Из всех сидевших за его столом я представлял для него наибольший интерес. Он доверял мне свои коммерческие секреты, которых я никогда никому не выдал. Он очень выгодно поместил свое доверие – настолько выгодно, что дважды сумел меня обмануть уже в ту пору, когда я был его зятем. Первый раз его предательство стоило мне довольно крупной суммы. Но обманут, собственно, был не я, а Оливи, так что я не очень расстраивался по этому поводу. Оливи послал меня к нему за какой-то информацией и получил эту информацию. А она оказалась такого свойства, что мой управляющий никогда мне этого не простил, и стоило мне впредь только открыть рот, чтобы сообщить ему какие-то сведения, как он тотчас же меня перебивал: «А кто вам это сказал? Ваш тесть?» Чтобы защитить себя от его упреков, мне пришлось защищать и Джованни, и в конце концов я почувствовал себя скорее обманщиком, чем обманутым. Очень приятное ощущение!
Но в другой раз дураком оказался я сам и все-таки не затаил против своего тестя злого чувства. Я просто не знал, то ли смеяться, то ли завидовать! Я воочию увидел, как приложил он ко мне те самые принципы, которые когда-то так хорошо мне объяснил. И сумел это сделать так, что еще и смеялся вместе со мной над моим несчастьем, не желая признать, что сам меня обманул, и уверяя, что смеется только над комической стороной постигшей меня беды.
Лишь однажды он признался, что сыграл тогда со мной злую шутку. Это случилось на свадьбе его дочери Ады (которая выходила не за меня). Он выпил много шампанского, и вино взбаламутило все в его огромном теле, привыкшем утолять жажду чистой водой.
Тогда-то он и рассказал о случившемся, причем орал во все горло, чтобы заглушить смех, мешавший ему говорить.
– И вот, значит, появляется это объявление. Ну, я расстроенный сижу, подсчитываю, во что мне это обойдется. И как раз в этот момент входит мой зять. Он заявляет, что хочет посвятить себя коммерции. «Вот как раз прекрасный случай», – говорю я ему. И он буквально вырывает у меня из рук бумагу, чтобы успеть подписать ее до того, как ему помешает Оливи. И дело сделано! – Затем Джованни воздал мне хвалу: – Классиков знает наизусть! Знает, кто сказал то, а кто это! Вот только газет читать не умеет!
Это была правда. Если б я увидел это объявление, напечатанное на малозаметном месте в каждой из пяти газет, которые я ежедневно прочитываю, я бы не угодил в расставленную ловушку. Но для этого я должен был еще и вникнуть в его смысл, суметь понять, чем оно мне грозит, – а это было не так уж просто, ибо в нем говорилось об уменьшении процента пошлины, из-за чего товар, о котором шла речь, падал в цене.
На другой день после свадьбы тесть опровергнул сделанное накануне признание. И дело в его изложении вновь приняло тот самый вид, который оно имело до вчерашнего ужина.
– Чего только не наплетешь, выпив лишнего, – сказал он, как ни в чем не бывало, и мы сошлись на том, что объявление, о котором шла речь, появилось два дня спустя после заключения сделки. И ни разу ему не пришло в голову, что даже если б я и увидел это объявление, я мог понять его совершенно не так, как следует. Это было очень лестно, хотя щадил он меня не из вежливости, а просто потому, что полагал, будто, читая газету, каждый из нас помнит прежде всего о своей выгоде. В то время как я, взяв в руки газету, сразу же начинаю ощущать себя общественным мнением, и объявление об уменьшении пошлины приводит мне на память только Кобдена [7] и либеризм [8]. И эта мысль так меня захватывает, что для мыслей о собственном товаре в голове уже просто не остается места.
Только однажды мне удалось завоевать восхищение тестя, причем предметом восхищения был именно я – таков, как я есть, и даже больше того – мои недостатки. Мы с ним владели акциями одного сахарного завода, от которого все ждали чудес. Но чудес все не было, и акции, наоборот, все падали и падали, понемногу, но каждый день, и Джованни, не умевший плыть против течения, быстро избавился от своих и посоветовал мне продать мои. Совершенно с ним согласившись, я решил дать соответствующие распоряжения своему маклеру и, чтобы не забыть, отметил это в записной книжке, которой снова обзавелся в ту пору. Но, как известно, днем в записную книжку заглядываешь редко, и только спустя несколько дней, вечером, ложась спать, я с удивлением обнаружил эту запись, но было уже слишком поздно, чтобы она могла мне сослужить какую-нибудь службу. Я даже вскрикнул от досады и, чтобы не вдаваться в объяснения, сказал жене, что прикусил язык. В следующий раз, пораженный собственной рассеянностью, я прикусил себе руку. «Смотри береги теперь ноги!» – смеясь, сказала жена. Но больше несчастных случаев не было, потому что постепенно я к этому привык. Я только тупо смотрел на свою записную книжку, слишком тоненькую, чтобы я днем мог заметить ее присутствие в собственном кармане, и снова забывал о ней до следующего вечера.
Однажды внезапный ливень загнал меня в Тержестео. Там я случайно столкнулся со своим маклером, и он сказал мне, что за последние восемь дней стоимость этих акций почти удвоилась.
– А вот теперь я их продам! – воскликнул я торжествуя.
И побежал к тестю, который уже знал о том, что акции поднялись, очень жалел, что продал свои, и несколько меньше – о том, что заставил меня продать мои.
– Ничего, потерпи! – сказал он смеясь. – Ведь это в первый раз ты терпишь убыток с тех пор, как следуешь моим советам!
То, прошлое дело, он мне предложил, а не посоветовал – а это, по его мнению, были совсем разные вещи.
Я от души рассмеялся.
– Да я и не подумал последовать твоему совету! – Мне мало было удачи, я еще хотел поставить ее себе в заслугу! И я сказал, что мои акции будут проданы только завтра, и, приняв важный вид, объяснил, что пренебрег его советом, так как получил кое-какие сведения, о которых ему просто забыл сообщить.
Он помрачнел и, не глядя мне в лицо, сказал оскорбленным тоном:
– Человек с твоей головой не должен заниматься делами! А кроме того, уж коли сделал такую подлость, так по крайней мере молчи. Да, многому тебе еще предстоит научиться.
Меня огорчило, что он так рассердился. Когда убытки причинялись мне, все получалось гораздо забавнее. И я откровенно рассказал ему, как было дело.
– Как видишь, именно с моей головой и следует заниматься делами!
Сразу же смягчившись, он рассмеялся:
– Все равно считай, что это не прибыль, а лишь возмещение убытков. Твоя голова обошлась тебе уже во столько, что простая справедливость требует, чтобы ты хоть что-нибудь себе возвратил.
Сам не знаю, почему я так долго останавливаюсь на наших с ним столкновениях, которых, в сущности, было очень мало. Видимо, я был по-настоящему к нему привязан, раз уж искал его общества, несмотря на то что у него была привычка громко орать, чтобы прояснить для самого себя собственные мысли. Моя барабанная перепонка как-то выдерживала эти вопли. Если б он не так орал, его безнравственные теории выглядели бы куда более возмутительно, а если б он был лучше воспитан, уже не так поражала бы его сила. И хотя я был совсем на него не похож, он, по-моему, отвечал мне взаимностью. Если б не его ранняя смерть, я бы узнал это точнее. Он продолжал терпеливо учить меня своему делу, уже после того как я женился, и частенько сдабривал свои уроки криками и оскорблениями, которые я терпел, так как считал, что полностью их заслужил.
Женился я на его дочери. Меня толкнула на это сама загадочная мать-природа, и вы позднее увидите, какую она проявила при этом настойчивость. Порой я рассматриваю лица своих детей и рядом с маленьким, свидетельствующим о слабости – моим – подбородком, рядом с мечтательными – моими – глазами пытаюсь отыскать следы жестокой силы того, кого я выбрал им в деды.
Я плакал над гробом своего тестя, хотя его обращенное ко мне последнее прости не свидетельствовало об особой любви. Уже лежа на смертном одре, он сказал, что просто поражен моим бессовестным везением, позволяющим мне расхаживать на свободе, в то время как он прикован к постели. Ошеломленный, я спросил его, что́ я ему такого сделал, что он желает мне заболеть. И он ответил мне буквально следующее:
– Если б я мог выкарабкаться, передав тебе свою болезнь, я сто раз готов был бы тебя заразить. У меня ведь нет твоих предрассудков насчет гуманности!
И он вовсе не желал меня обидеть: он просто хотел еще раз повторить трюк, который так удался ему в тот раз, когда он всучил мне упавший в цене товар. Кроме того, я воспринял его слова как неуклюжий комплимент: мне приятно было узнать, что мою слабость он объясняет какими-то гуманными предрассудками.
На его могиле – как, впрочем, и на всех могилах – я оплакивал и ту часть себя, которую хоронил вместе с ним. Какое это было для меня лишение – потерять его, моего второго отца, заурядного, невежественного человека и яростного борца, который оттенял собою мою слабость, мою интеллигентность, мою робость. Да, да; это правда, я действительно очень робок! Но я, наверное, никогда бы об этом не догадался, если б не узнал хорошенько Джованни. И кто знает, чего бы я еще в себе ни обнаружил, оставайся он рядом со мной подольше!
Вскоре я заметил, что за столом в Тержестео, где все, словно забавляясь, выставляли себя точно такими, какие они есть, и даже хуже, Джованни проявлял сдержанность только в одном пункте: он никогда не заговаривал о своей семье, а уже если бывал к этому вынужден, то говорил очень немногословно и тоном несколько более мягким, чем обычно. Он был исполнен уважения к собственному дому и, наверное, думал, что далеко не все сидящие за его столом заслуживают, чтобы он что-нибудь им рассказал. Поэтому я сумел выяснить только одно, а именно, что имена всех его дочерей начинались на А: по его мнению, это было очень удобно, ибо позволяло передавать вещи, на которых была вышита эта буква, от сестры к сестре без всяких переделок. Сестер звали (я сразу же запомнил эти имена) Ада, Аугуста, Альберта и Анна. За тем же столом я услышал, что все они были красивы. Эта начальная буква поразила мое воображение, может быть, больше, чем она заслуживала. Я видел в своих мечтах этих четырех девушек, так прелестно связанных между собой своими именами. Казалось, они составляют букет. Кроме того, эта начальная буква говорила мне и еще кое о чем. Сам я зовусь Дзено, и у меня было чувство, что, женившись на одной из сестер, я возьму себе в жены девушку из дальних мест [9].
Наверное, это было чистой случайностью, что, прежде чем войти в дом Мальфенти, я покончил с одной своей старинной привязанностью. Та женщина, должно быть, заслуживала лучшего к себе отношения. Но случайность эта была из тех, что заставляют задуматься. Решение о разрыве было принято мною по совершенно ничтожному поводу. Бедняжка решила, что лучший способ привязать меня к себе – это возбудить мою ревность. Но получилось наоборот – одного подозрения оказалось достаточно, чтобы я с ней порвал. Она не знала, что я в ту пору был обуян идеей брака, а вступить в брак с ней мне казалось невозможным хотя бы потому, что в таком браке для меня не было бы достаточно новизны. Подозрение, которое она поселила во мне нарочно, лишний раз продемонстрировало мне преимущества супружеской жизни, в которой подобным подозрениям не может быть места. Когда же это подозрение, неосновательность которого я очень скоро почувствовал, рассеялось, я напомнил себе, что она слишком любит сорить деньгами. Правда, сейчас, после двадцати четырех лет, прожитых в законном браке, я несколько изменил свое мнение на этот счет.
Впрочем, для нее наш разрыв был настоящим благодеянием, потому что несколько месяцев спустя она вышла замуж за очень состоятельного человека и таким образом добилась желанных перемен в своей жизни гораздо раньше, чем я. Еще не будучи женатым, я как-то встретился с нею в доме своего будущего тестя: ее муж оказался его приятелем. С тех пор мы часто встречались в течение многих лет, но даже пока были молоды, проявляли всегда величайшую сдержанность и ни разу не позволили себе ни одного намека на прошлое. И только вчера она вдруг спросила меня, и при этом лицо ее, обрамленное седыми волосами, покраснело, как у девушки:
– Почему вы меня тогда бросили?
Я был откровенен, потому что у меня не было времени сочинить какую-нибудь ложь:
– Сам не знаю. Я много чему в своей жизни не могу подыскать объяснения.
– Мне очень жаль, – сказала она, и я уже было наклонился, чтобы отвесить поклон за комплимент, обещание которого ясно звучало в ее словах. – В старости вы оказались очень забавны.
Я с усилием выпрямился. Благодарить и кланяться тут было не за что.
Однажды я услышал, что семейство Мальфенти возвратилось в город из продолжительной увеселительной поездки, завершавшей их летний отдых. Мне не пришлось хлопотать о том, чтобы получить доступ в их дом, потому что Джованни пригласил меня сам.
Он показал мне письмо одного своего близкого друга, в котором тот спрашивал обо мне. Этот друг оказался моим товарищем по университету, которого я очень любил, покуда верил, что он станет великим химиком. Теперь же он меня совершенно не интересовал, так как сделался крупным торговцем удобрениями, и в этом новом качестве я его совсем не знал. Джованни пригласил меня к себе, потому что я был другом этого его друга, и, наверное, излишне говорить, что ему не пришлось долго меня упрашивать.
Свой первый визит я помню так, словно это было вчера. Был холодный и темный осенний день, и я помню даже то ощущение, которое испытал, сбросив пальто в тепле их прихожей. Я словно входил наконец в желанную гавань. Меня до сих пор изумляет тогдашняя моя слепота, которая в то время казалась мне прозорливостью. Я мечтал о здоровье и законном браке. Это было, конечно, хорошо, что одной буквой А были обозначены сразу четыре девушки, но трех из них мне следовало сразу же исключить, а что касается четвертой, то ее я собирался подвергнуть придирчивому экзамену. Суровым судьей – вот кем собирался я стать. А сам между тем понятия не имел о том, какими качествами моя избранница должна обладать и какие качества, напротив, внушают мне отвращение.
В просторном и элегантном салоне, разделенном по обычаю того времени на две части и обставленном мебелью двух различных стилей: одна – Людовика XIV, другая – венецианская, богато украшенная золотом, сверкавшим даже на кожаной обивке, я нашел только Аугусту, которая читала, сидя у окна. Она протянула мне руку: ей было известно мое имя, и она сказала, что меня ждут, так как папа предупредил о моем посещении. И она убежала позвать мать.
Итак, из четырех девушек с одинаковыми инициалами одна для меня отпала сразу же. С чего это они взяли, что она красива? Первое, что вы в ней замечали, – это ее косоглазие, причем такое сильное, что, вспоминая ее как-то после того, как мы долго не виделись, я только это косоглазие и смог вспомнить: оно как бы олицетворяло ее всю. Волосы у нее были не очень густые, правда, белокурые, но какие-то тусклые и бесцветные, а фигура, хотя и довольно изящная, была все же для ее возраста излишне полной. И в течение недолгого времени, покуда я оставался в гостиной один, я все время думал: «А что, если и другие на нее похожи?»
Некоторое время спустя число девушек в гостиной увеличилось до двух. Второй, которая вошла вместе с матерью, было всего лишь восемь лет. Она была очень хорошенькая, с длинными блестящими локонами, распущенными по плечам. Нежное пухленькое личико делало ее похожей (пока она не раскрывала рта) на тех задумчивых ангелочков, которых любил рисовать Рафаэль Санцио.
Моя теща… Вот опять! Что-то мне мешает говорить о ней свободно. Уже много лет как я отношусь к ней с любовью, поскольку теперь она моя мать, но ведь сейчас-то я рассказываю о делах давнишних, в которых она вела себя по отношению ко мне отнюдь не дружески! И тем не менее даже здесь, в этой рукописи, которая никогда не попадется ей на глаза, я не скажу о ней ни одного непочтительного слова. Впрочем, ее вмешательство в мои дела было таким кратким, что уж можно было бы о нем и забыть: всего-навсего толчок в точно выбранный момент, толчок не очень даже сильный, но его оказалось достаточно, чтобы заставить меня потерять мое неустойчивое равновесие. Правда, может, я потерял бы его и без ее вмешательства; и потом, кто знает, того ли она хотела, что случилось? Моя теща слишком хорошо воспитана, и, следовательно, я не могу надеяться, что когда-нибудь она, как ее муж, выпьет лишнего и признается, как именно обстояло дело. С ней такого случиться не может, а потому я, в сущности, и сам хорошенько не знаю истории, которую собираюсь рассказать: то есть для меня так и осталось неясным – ее ли хитростью или моей глупостью следует объяснить то, что женился я не на той ее дочери, на которой хотел жениться.
Пока же скажу, что в пору моего первого визита моя теща и сама еще была красивой, элегантной женщиной, одевающейся роскошно, но не броско. Все в ней было гармонично и сдержанно.
Мои тесть и теща являли своим супружеством пример того полнейшего слияния, о котором я всегда мечтал. Они были очень счастливы вдвоем: он – такой громогласный, и она – улыбающаяся ему сочувственной и в то же время снисходительной улыбкой. Она любила своего огромного мужа; эту любовь он, должно быть, завоевал и сумел сохранить благодаря своим успехам в делах. Но привязывала ее к нему не корысть, а искреннее восхищение – восхищение, которое я полностью разделял, а потому прекрасно понимал. Страсть, с которой он сражался на своем крохотном поле – можно сказать, просто в клетке, где не было ничего, кроме товара и двух врагов-конкурентов, и где тем не менее все время возникали все новые и новые отношения и все новые и новые ситуации, – эта страсть таинственным образом одушевляла их жизнь. Он рассказывал жене о всех своих делах, а она была так хорошо воспитана, что никогда не давала ему советов, боясь сбить его с толку. Но ее молчаливая поддержка была ему совершенно необходима, и порою он бежал домой, чтобы произнести там очередной монолог, будучи совершенно уверен, что идет туда за советом.
Я не очень удивился, когда узнал, что он изменяет ей, что она это знает и нисколько на него не сердится. Я уже с год как был женат, когда однажды ко мне пришел сильно взволнованный Джованни и, объяснив, что потерял очень важное письмо, перерыл все бумаги, которые дал мне накануне, в надежде, что оно там отыщется. Несколько дней спустя, уже совершенно успокоившийся и довольный, он сказал мне, что нашел письмо в собственном портфеле. «Оно было от женщины?» – спросил я, и он утвердительно кивнул головой, гордый своими победами. Потом как-то раз я сам потерял какие-то важные бумаги и, защищаясь от упреков жены и тещи, сказал, что я не такой везучий, как мой тесть, к которому потерянные бумаги сами возвращаются в портфель. И тут моя теща рассмеялась, да так весело, что я утратил и остатки сомнений: то письмо, конечно, подложила в портфель она сама. Видимо, для их отношений это не имело никакого значения. Каждый любит как умеет, и их способ, по-моему, был отнюдь не самым глупым.
Синьора приняла меня очень любезно. Она извинилась, что привела с собой маленькую Анну: то были положенные ей обязательные четверть часа общения с матерью. Девочка принялась внимательно рассматривать меня своими серьезными глазами, а когда вернулась Аугуста и села на маленький диванчик как раз напротив нас, перебралась к ней на колени и продолжала разглядывать меня оттуда с настойчивостью, которая меня даже забавляла, покуда я не узнал, какие мысли бродили при этом в ее маленькой головке.
Разговор сначала был мало занимателен. Как и все хорошо воспитанные люди, синьора при первой встрече показалась мне довольно скучной. Она слишком много расспрашивала меня о том моем приятеле, который якобы ввел меня в их дом, между тем как я даже не помнил толком его имени.
Вошли наконец Ада и Альберта. Я вздохнул с облегчением: обе были красивы, и их появление словно осветило гостиную, где до сих пор было темно. Обе сестры были шатенки, высокие и стройные, но совсем не похожие одна на другую. Выбор для меня оказался делом несложным. Альберте было тогда чуть больше семнадцати. Хотя она была и шатенка, кожа у нее была как у матери – прозрачно-розовая, и это придавало ее облику что-то детское. Напротив, Ада выглядела уже сложившейся женщиной: серьезные глаза на ослепительно белом, даже слегка голубоватом лице, и густые волнистые волосы, уложенные в изящную и строгую прическу.
Мне трудно обнаружить робкие истоки чувства, позднее так меня захватившего, но я уверен, что так называемого coup de foudre [10] не было. Вместо любви с первого взгляда у меня просто возникло убеждение, что это именно та женщина, которая мне нужна и с которой я обрету в священном моногамном браке моральное и физическое здоровье. Когда я об этом вспоминаю, меня всегда удивляет, что вместо любви с первого взгляда у меня возникло лишь это убеждение. Как известно, мужчины не ищут в женах тех качеств, которые они обожают и презирают в своих любовницах. Именно поэтому я, наверное, и не разглядел сразу красоту и грацию Ады, а был очарован совсем другими ее чертами – ее энергией и серьезностью, повторявшими в несколько, разумеется, ослабленном виде те самые черты, которыми я так восхищался в ее отце. Так как потом я окончательно убедился (и убежден в этом до сих пор), что я тогда не ошибся и что этими качествами Ада в девушках, несомненно, обладала, я могу считать, что я очень наблюдателен. Наблюдателен, хотя и слеп! В тот первый раз, глядя на Аду, я желал только одного: поскорее влюбиться, потому что через этот этап необходимо было пройти для того, чтобы жениться. И я принялся за дело с тем же усердием, с каким отдавался заботам о своем здоровье. Не могу с точностью сказать, когда именно я добился желаемого, но, кажется, довольно скоро после моего первого визита.
Должно быть, Джованни много рассказывал обо мне дочерям. Так, например, они знали, что я перешел с юридического факультета на химический, чтобы потом – увы! – вновь вернуться на юридический. Я попытался объяснить им этот поступок: по моему глубокому убеждению, для человека, ограничившего себя одним факультетом, огромная часть знания остается закрытой книгой. И я добавил:
– И если б жизнь не предъявляла мне сейчас своих серьезных требований (я не сказал, что серьезность жизни я почувствовал совсем недавно, с тех пор, как решил жениться), я бы еще раз поступил на какой-нибудь факультет.
Потом, желая рассмешить их, я сказал, что – забавная вещь! – и тот и другой факультет я бросал как раз в пору экзаменов.
– Чистая случайность, разумеется, – пояснил я с улыбкой человека, который не хочет, чтобы ему поверили. На самом деле я переходил с одного факультета на другой в самое разное время.
Так приступил я к завоеванию Ады и дальше продолжал в том же духе, то есть все время старался сделать так, чтобы она надо мной смеялась, при мне ли, без меня – все равно. Я словно забыл о том, что предпочел ее всем другим именно за серьезность. Я вообще человек со странностями, а ей, по всей вероятности, показался и совсем ненормальным. Правда, тут уж виноват не только я, если учесть, что отвергнутые мною Альберта и Аугуста составили обо мне совершенно иное мнение. Но Ада, которая в ту пору так серьезно оглядывала всех своими прекрасными глазами, ища мужчину, которому бы она позволила войти в свое гнездо, – эта Ада, конечно, не могла полюбить человека, который ее смешил. Она слишком много смеялась, и от этого в ее глазах становился смешным и тот, кто заставлял ее смеяться. Это, несомненно, был признак какой-то ее неполноценности, которая неминуемо должна была ей же и повредить, но сначала она повредила мне. Если бы я сумел вовремя замолчать, может быть, все пошло бы по-другому. Тогда заговорила бы она, я бы лучше ее узнал и смог бы от многого уберечься.
Все четыре сестры сидели на маленьком диванчике, на котором с трудом помещались, несмотря на то что Анну Аугуста держала на коленях. Они были очень красивы – вот так, все вместе. Я констатировал это с внутренним удовлетворением, видя, что я на верном пути к восхищению и любви. Очень, очень красивы! Блеклая белокурость Аугусты красиво оттеняла каштановые волосы ее сестер.
Я заговорил об университете, и Альберта, которая училась в предпоследнем классе гимназии, рассказала мне о своих занятиях. Она пожаловалась, что ей с трудом дается латынь. Я сказал, что это меня не удивляет, потому что латынь – это язык не для женщин: я уверен, что даже в Древнем Риме женщины говорили не по-латыни, а по-итальянски. Что же до меня, заметил я, то латынь всегда была моим любимым предметом. Чуть позднее я имел неосторожность процитировать какое-то латинское изречение, и Альберта меня поправила. Вот ведь несчастье! Но я не придал этому слишком большого значения и сказал Альберте, что, когда за спиной у нее будет десяток университетских семестров, ей тоже придется остерегаться цитировать латинские изречения.


