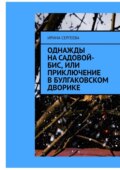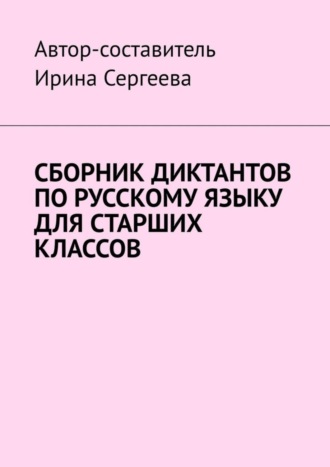
Ирина Сергеева
Сборник диктантов по русскому языку для старших классов
Автор-составитель Ирина Сергеева
ISBN 978-5-0059-5381-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
В лесу было почти жарко, ветру не слышно было. Береза, вся обсеянная зелеными клейкими листьями, не шевелилась, и из-под прошлогодних листьев, поднимая их, вылезала зелёная, первая трава и лиловые цветы. На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше берез, составлявших лес, он был в десять раз толще и в два раза выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанною корою, заросшею старыми болячками; с огромными своими неуклюжими, несимметрично расположенными, корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.
Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его. Все было полно, тенисто и густо, и молодые ели, рассыпанные по лесу, не нарушали общей красоты и, подделываясь под общий характер, нежно зеленели пушистыми, молодыми побегами. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь, в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя – ничего не было видно.
Сквозь жесткую, столетнюю кору пробивались без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да, это тот самый дуб», – подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления.
(По Л. Толстому)
День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных и поехал проселочной дорогой. Нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика. Наконец я увидел горюхинскую рощу и через десять минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось, и я смотрел вокруг себя с волнением необыкновенным: восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошеный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре вся дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые мне лица и дружески со всеми целуясь. Мужчины плакали, женщинам я говорил без церемонии: «Как ты постарела!» И мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели!» Повели меня на заднее крыльцо, и навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, давно в бездействии отрастивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин, так как уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки. Так очутился я в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой двадцать три года тому назад родился.
(По А. Пушкину)
Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу. На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветке дерева не шевелились; изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. И вот снова послышался звук, он равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев; одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.
Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На какое-то мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и опустив ветви, оно рухнуло макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли…
Первые лучи солнца, не закрытые облаками, блеснули в небе и пробежали по земле и по небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по сипевшему своду.
Птицы завозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.
(По Л. Толстому)
Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по кустам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Не то, чтобы ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство.
Дядя Брошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойные следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину. Он почти не говорил, только изредка и шепотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и заросла давно травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и зарос, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником и плющом; внизу густо рос темный терновник, цеплявшийся за ноги. Каждая маленькая полянка заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками.
Местами большие звериные и маленькие, как тоннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чащу леса. Сила растительности этого не пробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина. Этот лес, опасность, старик со своим таинственным шепотом, Марьянка со своим мужественным стройным станом и горы, поросшие кустарником, – все это казалось сном Оленину, и он чувствовал какое-то особенное наслаждение, какого
еще никогда не испытывал.
(По Л. Толстому)
Туча, то белея, то чернея, так быстро надвигалась, что надо было еще прибавить шага, чтобы до дождя поспеть домой. Передовые ее, низкие и черные, как дым с копотью, облака с необыкновенной быстротой бежали по небу. До дома еще было шагов двести, а уже поднялся ветер, и всякую секунду можно было ждать ливня. Дети с испуганным и радостным визгом бежали впереди, под защиту крыши.
В этот короткий промежуток времени туча уже настолько продвинулась своей серединой на солнце, что стало темно, как в затмение. Ветер упорно, как бы настаивая на своем, останавливал Левина и, обрывая листья и цвет с лип и безобразно и странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону: акации, цветы, лопухи, траву и макушки дерев. Белый занавес проливного дождя уже захватывал весь дальний лес и половину ближнего поля и быстро подвигался к Колку. Сырость дождя, разбивавшегося на мелкие капли, слышалась в воздухе.
Нагибая вперед голову и борясь с ветром, который вырывал у него палатки, Левин уже добегал к Колку и уже видел что-то белеющееся за дубом, как вдруг все вспыхнуло, загорелась вся земля и как будто над головой треснул свод небес. Открыв ослепленные глаза, Левин сквозь густую завесу дождя, отделившую его теперь от Колка, с ужасом увидел прежде всего странно изменившую свое положение зеленую макушку знакомого дуба в середине леса. «Неужели разбило?» – едва успел подумать Левин, как, все убыстряя и убыстряя движение, макуша дуба скрылась за другими деревьями, и он услыхал треск упавшего на другие деревья большого дерева.
Свет молнии, звук грома и ощущение мгновенно обданного холодом тела слились для Левина в одно впечатление ужаса.
(По Л. Толстому)
Не могу сказать, сколько времени я проспал, но когда я открыл глаза, вся внутренность леса была наполнена солнцем и во все направления сквозило и как бы искрилось ярко-голубое небо; облака скрылись, разогнанные взыгравшим ветром; погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущением, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытать счастья, как вдруг мои глаза остановились на неподвижном человеческом образе. Я вгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыхании тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая, белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими, мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собой. Густые белокурые волосы, прекрасного пепельного цвета, расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слоновая кость; остальная часть лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа.
Я не мог видеть ее глаз: она их не поднимала, но ясно видел ее тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы. Мне особенно нравилось выражение ее лица; так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоуменья перед собственной грустью.
Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло; она тотчас подняла голову и оглянулась, и в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани.
Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы.
(По И. Тургеневу)
Выражается сильно российский народ, и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему и в род, и в потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света,
И как уже потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица.
Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куда бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, и все сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как паспорт на вечную носку, и нечего уж прибавлять потом, какой у тебя нос или губы: одной чертой обрисован ты с ног до головы.
Всякий народ, носящий в себе залог силы, полный творящих способностей души, своей яркой особенности, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера.
Сердеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.
(По Н. Гоголю)
Отворились ворота, и вылетел оттуда гусарский полк, краса всех конных полков. Впереди всех понесся витязь всех бойчее, всех красивее. Так и летели черные волосы из-под медной его шапки, вился завязанный на руке дорогой шарф, шитый руками первой красавицы.
Оторопел Тарас, когда увидел, что это был Андрий. А он, объятый жаром и пылом битвы, жадный заслужить повязанный на руку подарок, понесся, как молодой борзой пес, красивейший, быстрейший и младший всех в стае.
Остановился Тарас и глядел на то, как он чистил перед собой дорогу, разгонял, рубил и сыпал удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и закричал: «Эй, хлопцы, заманите мне его только к лесу, заманите мне только его!»
И вызвалось тотчас же тридцать быстрейших казаков заманить его и, поправив на себе высокие шапки, тут же пустились на конях прямо наперерез гусарам. Они ударили сбоку на передних, сбили их, а Голокопытенко хватил плашмя по спине Андрия и пустился бежать от них, поворачивая к лесу.
Ударив острыми шпорами коня, во весь дух полетел Андрий за казаками, не глядя назад, не видя, что позади только двадцать человек поспевало за ним. Разогнался Андрий и чуть было уже не настигнул Голокопытенко, как вдруг чья-то сильная рука ухватила за повод его коня. Оглянулся Андрий: перед ним Тарас. Затрясся он всем телом и вдруг стал бледен, притих в нем бешеный порыв и упала бессильная ярость…
«Ну, что же мы теперь будем делать? – спросил Тарас, глядя прямо в очи. – Стой и не шевелись». Отступивши шаг назад, он снял с плеча ружье и выстрелил.
Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова.
(По Н. Гоголю)
Казалось мне, что осенний грустный месяц уже давным-давно плывет над землей, что наступил час отдыха, что уже весь, до последнего нищенского угла заснул Париж. Долго спал я, и наконец медленно отошел от меня сон, как заботливый и неторопливый врач, сделавший свое дело и оставивший больного уже тогда, когда он вздохнул полной грудью и, открыв глаза, улыбнулся застенчивой и радостной улыбкой возвращения к жизни. Очнувшись, я открыл глаза и увидел себя в тихом и светлом царстве ночи.
Я неслышно ходил по ковру в своей комнате на пятом этаже и подошел к одному из окон. Я смотрел то в комнату, большую и полную легкого сумрака, то в верхнее стекло окна на месяц, обливавший меня светом. Он глядел мне прямо в глаза, светлый, но немного печальный.
Давно не видел я месячной ночи! И вот мысли мои опять возвратились к далеким, почти забытым осенним вечерам, которые видел я когда-то в детстве, среди холмистой и скудной степи средней России. Там месяц глядел под мою родную кровлю, и там впервые узнал и полюбил я его кроткое и бледное лицо. Я мысленно покинул Париж, и на мгновение померещилась мне вся Россия, точно с возвышенности я взглянул на огромную низменность. Вот золотисто-блестящая пустынная ширь Балтийского моря. Вот – хмурые страны сосен, уходящие в сумрак к востоку, вот – редкие леса, болота и перелески, ниже которых, к югу, начинаются бесконечные поля и равнины. На сотни верст скользят по лесам рельсы железных дорог, тускло поблескивая при месяце. Сонные разноцветные огоньки мерцают вдоль путей и один за другим убегают на мою родину. Передо мной слегка холмистые поля, а среди них – старый, серый помещичий дом, ветхий и кроткий при месячном свете… Неужели это тот же самый месяц, который глядел когда-то в мою детскую комнату, который видел меня потом юношей и который грустит теперь вместе со мной о моей неудавшейся молодости? Это он успокоил меня в светлом царстве ночи…
– Отчего ты не спишь? – услыхал я робкий голос. И то, что она первая обратилась ко мне после долгого и упорного молчания, больно и сладко кольнуло мне в сердце.
Я взял ее руки и отвел от глаз: по щекам ее катились слезы, а брови были подняты и дрожали, как у ребенка. И я опустился у ее ног на колени, прижался к ней лицом, не сдерживая ни своих ни ее слез.
(По И. Бунину)
Вторые сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы встретили густой туман, который закрывал горизонты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг нас, но все последние дни стояла оттепель, и серые космы тумана, как живые, медленно ползли по пароходу.
Помню, что вначале это сильно беспокоило. Колокол почти непрерывно звонил на баке, из трубы с тяжким хрипом вырывался угрожающий рев, и все тупо смотрели на растущий туман. Он вытягивался, изгибался, плыл дымом и порою так густо окутывал пароход, что мы казались друг другу призраками, двигающимися во мгле. Похоже было на хмурые осенние сумерки, когда неприятно дрогнешь от сырости и чувствуешь, как зеленеет лицо. Не переставая звонить, пароход направлялся все дальше от берегов, к югу, где непроницаемая густота тумана наливались уже настоящими сумерками, такой мутью, за которой в двух шагах чудился конец света, жуткая пустыня пространства. И вот наступила долгая зимняя ночь.
Тогда, чтобы вознаградить себя за тоскливый день, истомивший всех ожиданием беды, пассажиры сбились вместе с моряками и кают-компании. Вокруг парохода была уже непроглядная тьма, а внутри его, в нашем маленьком мирке, было cветлo, шумно и людно. Потом устали и захотели спать, и все точно вымерло.
Внутренне напевая то, что пели и играли в этот вечер, я ощупью добрался до трапа, поднялся на несколько ступеней к верхней палубе и остановился, пораженный красотою и печалью лунной ночи. Околдованный тишиной, которой никогда не бывает на земле, я отдавался в ее полную власть.
Утром, когда я открыл глаза и почувствовал, что пароход идет полным ходом и что в открытый люк тянет теплый, легкий ветерок с прибрежий, я вскочил с койки, снова полный бессознательной радости жизни. Улыбаясь, я сидел потом на верхней палубе и – чувствовал к кому-то детскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь и туман, казалось мне, были только затем, чтобы я еще более любил и ценил утро. Л утро было ласковое и солнечное, ясное небо весны сияло над пароходом, и вода легко бежала и плескалась вдоль его бортов.
(По И. Бунину)
Тогда можно было различать самый отдаленный курган в степи, на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как листок за листком осыпается она, пока наконец не оставалась вся раздетая на его золотом ковре. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев.
Зато жутки были дни и ночи, когда осень сбрасывала с себя кроткую личину. Беспощадно трепал тогда ветер обнаженные ветви березы. Избы стояли нахохлившись, как куры в непогоду, туман в сумерки низко бежал по голым равнинам, волчьи глаза светились ночью на задворках.
С конца сентября сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась: ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи; иногда к вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западе трепещущий золотистый свет низкого солнца; воздух делался чист и ясен, а солнечный свет ослепительно сверкал между листвою, между ветвями, которые живою сеткою двигались и волновались от ветра.
Стоишь у окна и думаешь, когда же распогодится, но ветер не унимается: он волновал сад, рвал непрерывно бегущую из трубы струю дыма и снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. Они бежали быстро и низко и, точно дым, затуманивали солнце. Погасал его блеск, и в саду становилось пустынно и скучно; снова начинал сеять дождь – сперва тихо, осторожно, потом все гуще и наконец превращался в ливень с бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная ночь.
Из такой трепки сад выходил почти совсем обнаженным, засыпанным мокрыми листьями и каким-то притихшим, смирившимся. Но зато как красив он был, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный признак осени! Сохранившаяся листва теперь будет висеть на деревьях уже до первых зазимков. Черный сад будет сквозить на холодном бирюзовом небе и покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске.
(По И. Бунину)
Однажды за Тереком, куда я ездил с абреками отбивать русские табуны, нам не посчастливилось и мы рассыпались, кто куда. За мной неслись четыре казака; прилег я на седло и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие листья били меня по лицу. Конь мой прыгал через пни, разрывая кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, – и пророк наградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уже слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам. Вдруг передо мной рытвина глубокая; скакун мой призадумался – и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противоположного берега, и он повис на передних ногах. Я бросил поводья и полетел в овраг, и это спасло моего коня: он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не пустился меня искать: они верно думали, что я убился до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня.. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагез; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раза два чуть-чуть не накинул ему на шею аркан. Я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их – и вижу: мой Карагез летит, развевая хвост, вольный, как ветер, а казаки далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях…
До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг во мраке слышу, бегает по оврагу конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю. Я узнал голос моего Карагеза, это был он, мой товарищ! С тех пор мы не разлучались.
(По М. Лермонтову)
Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей: стены комнаты убраны были несколькими картинами и картинками в старинных узеньких рамках; два портрета были больших, написанных масляными красками; пол почти во всех комнатах был глиняный, но так чисто вымазанный и содержался с такой опрятностью, с какою, верно, не содержался ни один паркет в богатом доме, лениво подметаемый невыспавшимся господином в ливрее.
Но самое замечательное в доме были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, отчего они пели: перержавевшие ли петли тому виною, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет; но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос: дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дискантом; дверь, ведущая в столовую, хриплым басом; но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный дребезжащий и вместе стонущий звук, так что, вслушиваясь в него, очень ясно слышалось: батюшки, я зябну! Стулья к комнате были деревянные, массивные, какими обыкновенно отличается старина; они были все с высокими выточенными спинками в натуральном виде, без всякого лака и краски; они не были даже обиты материей. Треугольные столики по углам, четырехугольные перед диваном, и зеркалом в тоненьких золотых рамках, выточенных листьями, которых мухи усеяли черными точками, ковер перед диваном с птицами, похожими на цветы, и цветами, похожими на птиц, – вот все почти убранство невзыскательного домика, где жили мои старики.
(По Н. Гоголю)
Он вступил в темные, широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком: казалось, как будто в доме происходило мытье полов, и сюда на время нагромоздили мебель. На одном столе стоял сломанный стул и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф со старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюро, выложенном перламутровою мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные, чернилами, высохшие как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.
Пока Чичиков рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь, и взошла та самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница, по крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки похо-дил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей.
Вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым!
(По Н. Гоголю)
Беликов был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очистить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой и, когда садился на извозчика, приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний.
Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было, и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.
И мысль свою Беликов тоже старался запрятать в футляр. Для него ясны были только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Но когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло».
И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяческих запрещений и ограничений. Ложась спать, он укрывался с головор; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело. И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны.
(По А. Чехову)
Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в него, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих! На нем ни облачка. В поле ни речи. Все как будто вымерло; вверху только в небесной глубине дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на возлюбленную землю, да изредка крик чайки или звонкий голос перепела отдается в степи. Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми огородами, осеняемыми статными подсолнечниками.
Такой роскошью блистал один из дней жаркого августа, когда дорога, верст за десять до местечка Сорочинец, кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку.
Одиноко в стороне тащился истомленными волами воз, наваленный мешками, пенькою, полотном и разною домашнею поклажею, за которым брел в чистой полотняной рубахе и запачканных полотняных шароварах его хозяин. Ленивой рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавший с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и к красавице, и к уроду и насильно пудрит несколько тысяч лет род человеческий.
Много встречных, особенно молодых парубков, брались за шапку, поравнявшись с нашим мужичком. Однако же не седые усы и не важная поступь его заставляли это делать. Стоило только поднять глаза немного вверх, чтобы увидеть причину такой почтительности: на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком, с черными бровями, ровными дугами поднявшимися над светлыми карими глазами, с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые богатою короною покоились на ее очаровательной головке. Все, казалось, занимало ее; все было ей чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой. Как не рассеяться, если девушка в восемнадцать лет в первый раз на ярмарке!
Но ни один из прохожих и приезжих не знал, чего ей стоило упросить отца взять с собою, который и душой рад бы был это сделать прежде, если бы не злая мачеха, выучившаяся держать его в руках так же ловко, как он вожжи своей старой кобылы, тащившейся за долгое служение теперь на продажу.
(По Н. Гоголю)
Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохший, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном запустении. Зелеными облаками и неправильными трепетнолистыми куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе деревьев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурей или грозою, подымался из этой зеленой гущи, круглый и сверкающий, как правильная мраморная колонна; косой остроконечный излом, которым он оканчивался, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника, взбегал, наконец, и обвивал наполовину сломленную березу; достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал цеплять вершины других деревьев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами зеленая чаща расходилась, озаренная солнцем, и показывала неосвещенное углубление, зиявшее, как темная пасть, в черной глубине которой мелькали окинутые тенью, узкие дорожки, убегавшие вдаль, обрушенные перила, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой кустарник, вытыкавший из-за ивы иссохшие, перепутавшиеся и скрестившиеся сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листья. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них ободранные и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но так бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, уничтожит грубоощутимую правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытный нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создавалось в хладе размеренной чистоты и опрятности.