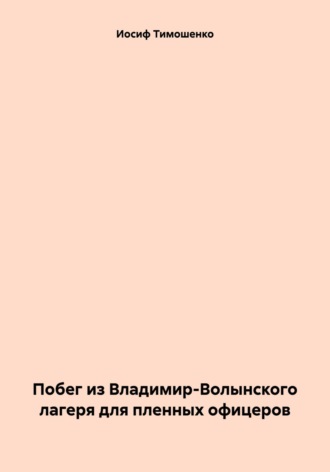
Иосиф Васильевич Тимошенко
Побег из Владимир-Волынского лагеря для пленных офицеров

Иосиф Васильевич Тимошенко (—)
1. Встреча с комдивом Калининым
Я не стану описывать обстановку, в которую я попал в Киевском окружении осенью 1941 года. Кончилось все тем, что в бою за населенный пункт Березань я был ранен и попал в плен. С этого момента и начну описывать свои мытарства по лагерям военнопленных.
Чувство бессилия перед врагом – омерзительное, низкое, позорное чувство. Тяжким бременем оно ложится в душу человека, и перенести его неимоверно трудно и мучительно, как суд над самим собой, как медленную смерть под пытками. Когда меня и таких же, как я, раненых притащили на колхозный ток и бросили на солому, я еще не мог ясно представить, что случилось. По стонам рядом лежащих товарищей, по нечеловеческим крикам и снующим теням я понял, что случилось что-то страшное, непоправимо позорное. Тяжелое чувство бессилия как стопудовая глыба легло на мое сердце, а мысли одна тяжелей другой мутили мое сознание. Я не слышал больше стонов, не чувствовал боли ран, солдаты неприятеля, как истуканы, стояли перед моими глазами, а мысли одна за другой: «Неужели конец? Неужели все кончилось? Неужели безнаказанно они будут топтать нашу землю, жечь наши села и города, убивать и мучить наш народ? Нет, этому не бывать! Там еще идут бои, и товарищи им за все отомстят».
Чувствую, как нас подымают и с размаху бросают в машину, и снова погружаюсь в какой-то кошмарный сон. Прихожу в сознание от резкого толчка машины, открываю глаза и вижу: рядом со мной вповалку в кузове лежат мои товарищи, а на нас лежит, как приговор к смертной казни, большой деревянный крест. «Значит, нам жить осталось недолго», – спокойно проплыла мысль. Ни сил, ни возможностей на спасение не было. Спасти нас мог только случай. К машине подошли солдаты в белых халатах, сняли с машины крест и положили рядом с дорогой. Машины тронулись.
Делаю усилие и приподнимаю голову, чтобы посмотреть, что будет дальше. Я увидел то, что мне было так нужно. Поле, покрытое деревянными крестами, и на них металлические каски фашистских завоевателей. Увидел, как немецкие солдаты в белых халатах подтащили крест к яме, а рядом с ямой лежат распластанные трупы фашистов. Санитары разбирают трупы и аккуратно укладывают в яму.
Радостней стало на душе. Значит, мы дрались недаром за Михайловку, за Березань, за переправы и высоты. Дорого мы платим за каждый метр своего отступления, но теперь я своими глазами увидел, во что обходился фашистам поход на восток. Дорога их наступления была отмечена могилами с осиновыми крестами и стальными касками на них.
«Много еще вы наставите крестов на своем пути! Война будет длинной и тяжелой, – подумал я. – Смогу ли я еще принять участие в этой борьбе?»
Машина шла на запад, минуя кладбище и обгоняя колонны военнопленных. Шли они в сопровождении военного конвоя голодные, в грязных окровавленных повязках, с перевязанными руками, шли на примитивных костылях, хромая и поддерживая друг друга, под окрики фашистских солдат и лай немецких овчарок. Многие из них падут жертвой голода и ран, умрут от болезней и жестоких пыток, закончат свою жизнь в лагерях смерти, на виселицах, в газовых камерах и казематах гитлеровских застенков.
Уничтожение военнопленных началось на марше к лагерям. Военнопленных убивали за звездочку на рукаве гимнастерки, убивали за разговор в строю, убивали за то, что ты похож на еврея, убивали за то, что ты не имел сил и отставал от колонны, убивали для развлечения и устрашения. Дорога в лагеря была усеяна трупами советских военнопленных. Я прошел длинный путь этапов и лагерей и видел это собственными глазами. Видел неравный смертельный бой безоружных военнопленных с вооруженными врагами, их мужество, стойкость и верность Родине. Безгранично велика была их любовь к Родине и ненависть к врагу. Это был неистощимый источник энергии и сил в их борьбе. Я видел, как умирают наши воины, защищая свою честь, умирают патриотами, не роняя достоинства советского человека. Но, к сожалению, я видел и трусость, и малодушие, и предательство. Чем дальше уходят от нас дни этих событий, тем ясней они видятся мне. Я постараюсь их описать такими, какими они были.
Вечером нас привезли в село Богдановку. Там было много военнопленных. Раненых поместили в колхозный свинарник, закрыли дверь на засов и выставили часовых. К утру двое военнопленных умерли. До следующего вечера никто к нам не приходил, нас не кормили. Вечером пришел немецкий ефрейтор. Унесли мертвых, выдали раненым хлеба из расчета 1 булка на 10 человек и по кружке воды. Второй день был похож на первый, только умерших было уже больше. На третий день к вечеру нам дали по черпаку баланды. Не у всех военнопленных были котелки, и большинство наливали баланду в пилотки. Некоторые, в том числе и я, не стали брать баланду в пилотки и были наказаны плеткой и лишены обеда. Никто нас не лечил и ран не перевязывал. К зловонию свинарника добавился зловонный запах гноящихся ран. Прожили мы в свинарнике несколько дней, и ежедневно умирали два-три человека. Это из партии примерно в восемьдесят человек.
Наша жизнь в свинарнике кончилась тем, что нас погрузили на машины и повезли в сторону Киева. По дороге мы видели мертвые села, заброшенные поля, колонны военнопленных и трупы. Много трупов военнопленных, зверски избитых и пристрелянных. Никто их не убирал с обочины дороги. Видели движущихся на восток немцев – жирных, самодовольных, упоенных легкой победой. Они орали непонятные для нас песни, хохотали, махали руками с засученными, как у палачей, рукавами. Ехали на открытых машинах и автобусах. Ехали как на парад, встречая военнопленных словами: «Советы капут! Комиссар капут! Юда!»
Так по пыльным дорогам мы были доставлены в Борисполь в лагерь военнопленных. В лагерь прибыли вечером. Погода испортилась. Дневная жара сменилась прохладной дождливой ночью. Нас поместили в госпиталь для военнопленных. Лагерь военнопленных был размещен на летном поле Бориспольского аэропорта, а госпиталь в помещении клуба летчиков. Нас занесли в помещение советские военнопленные санитары, переступая через раненых и ища свободные места. Меня положили на сцене. При тусклом свете фонарей я увидел до отказа переполненный зал. Раненые лежали вповалку на голом грязном полу, плотно друг к другу. Пройти в зал было невозможно. Стоны, крики, матерная брань, мольба о помощи, проклятия, повелительные команды – все смешалось в один гул, и смерть витала над всеми. Богдановский свинарник казался раем по сравнению с этим адом. Ни медикаментов, ни перевязочных материалов, ни условий для оказания помощи раненым не было. Лежали они на полу, кто в шинели, кто босой, кто в сапогах, а кто и совершенно голый, в грязных окровавленных бинтах. Беспрерывным потоком выносили из зала мертвых, скончавшихся от потери или заражения крови, голода. На их место заносили новых раненых.
Врачи из числа военнопленных старались помочь раненым, безотлучно находились в зале, успокаивали их, поправляли повязки. Но что они могли сделать в этих условиях без лекарств и перевязочных средств? Ласковое слово, добрый ободряющий совет – вот и все их лекарство и помощь. Меня поражала преданность советских военных врачей своему долгу. Они такие же военнопленные, как и все остальные, без устали и до последних сил боролись за каждого больного. Я не знаю их имен и фамилий, но они заслужили того, чтобы их знали и вспоминали словами благодарности не только мы, участники этих печальных событий, но и наши дети и внуки.
В эту ночь заснуть я не мог, меня лихорадило, и злила беспомощность. Врач осмотрел меня днем. Пинцетом выдернул из моих распухших и гноящихся ног мелко сидящие осколки и снова бинтовал старыми грязными бинтами. Снял грязную повязку, осмотрел рану и сказал:
– Рана под лопаткой очень глубокая, в этих условиях вытащить осколки я не могу. Если вы хотите жить, то уходите из этого ада. Я помогу вам добраться до общего лагеря, а там организуем лечение, там больше шансов на спасение, там вам помогут товарищи. Я буду присылать к вам фельдшера. Он вместе с товарищами организует промывку и перевязку ран. Старайтесь не двигать плечом, дайте возможность осколку вжиться в тело. На ногах опухоль спадет, и вы еще бегать будете.
Беседа врача на меня подействовала ободряюще. Два санитара доставили меня на летное поле и пристроили меня в одной из воронок от бомб, приспособленной военнопленными под жилье. Санитары передали меня под опеку двух военнопленных. Эти двое оказались очень хорошими товарищами. Одного звали Волошиным, по специальности он был мой коллега – инженер-строитель, до войны работал в Киеве, а когда началась война, был призван в армию. Роста был выше среднего, плотного телосложения, глаза выразительные, большие, умные. Он был лет на десять старше меня, на голове просвечивалась седина, немногословен. Плен он переживал болезненно, за время плена заметно похудел, вся одежда на нем висела, и под глазами появились мешки. Второй – Николай Завьялов. Кадровый офицер-интендант 2-го ранга, по возрасту моложе Волошина, но старше меня. Молчаливый, приветливый и душевный товарищ. По-военному подтянут и даже здесь, в плену, в этой яме не потерял своего опрятного вида. В армии он служил начфином полка, а когда началась война, был начальником дивизии.
В госпиталь я попал в одной нательной рубашке. Был конец сентября, моросил прохладный дождь. Отправляя меня в госпиталь на летное поле, военврач распорядился выдать мне шинель умершего летчика. Шинель была очень большая и впоследствии сослужила хорошую службу. В воронке меня устроили под плащ-накидкой, напоили горячим кипятком, закутали в шинель. Я согрелся и заснул.
Разбудили меня вечером и принялись лечить. По совету врача Завьялов собрал на летном поле листьев заячьего уха и промыл их кипятком, нагрев несколько котелков воды. Пришел военфельдшер, снял повязки, снова дергал пинцетом осколки и промывал кипяченой водой раны, потом обложил ноги листьями заячьего уха и снова забинтовал. То же он сделал с раной на плече. Через день фельдшер снял повязку, листья были покрыты зловонным гноем. Снова он дергал осколки и снова обкладывал листьями промытые водой раны. На этот раз раны перевязали чистыми бинтами, которые нашел товарищ Завьялов.
Так меня, да и не только меня, лечили в воронке советские врачи. Завьялов исполнял роль санитара: стирал бинты, кипятил воду, собирал и обрабатывал листья. Волошин поил меня горячим кипятком, получал за меня баланду.
Таких, как я, в воронке было много, и за всеми был организован уход и наблюдение врачей. Были в этих воронках и с более тяжелыми ранами. Здесь в Борисполе на летнем поле военные врачи спасли жизнь не одной сотне раненых.
Через две недели я уже мог подниматься, но самостоятельно ходить не мог. Когда я впервые поднялся, то увидел огромное поле аэродрома, переполненное военнопленными. Немцы разбили это поле на зоны и производили какую-то сортировку пленных, беспрерывно перегоняя их с одной зоны в другую. Волошин сказал мне, что в нашу зону немцы собирают командиров, что они с Завьяловым были в другой зоне, но их перегнали сюда. Под открытым небом военнопленные сновали по лагерю, шептались между собой, выкрикивали фамилии, искали знакомых, сослуживцев, земляков. У всех лица понурые, движения вялые, вид грязных, немытых оборванцев. Присматриваются друг к другу, в разговор вступают осторожно. Каждое слово взвешено и обдумано. Каждый старается найти друга, и, конечно, нет вернее друга, чем старый сослуживец. В лагерь прибывали все новые и новые команды военнопленных и ежедневно отправлялись куда-то этапом. С утра до позднего вечера задавались вопросы, кто из какого полка и какой части. Я еще не мог передвигаться по лагерю и искать сослуживцев. Никто не называл номер моей части. А как хотелось встретить кого-нибудь.
Как обрадовался я, когда ко мне подошел человек, которого я встретил на передовой за несколько дней до моего ранения. При первой встречи ему было лет пятьдесят, а теперь он выглядел на все семьдесят: небритый, согнувшийся. Он улыбнулся и попросил разрешения присесть. Медленно присел около меня, справился о моем здоровье, оглянулся по сторонам и почти шепотом начал предупреждать меня, чтобы я не говорил, кто он. При нашей первой встрече он представился мне командиром Киевского комсомольско-молодежного партизанского отряда, бывшим начальником штаба полка в дивизии Щорса, комдивом Калининым.
Эта встреча произошла восточнее города Борисполя, перед населенным пунктом Михайловка. Там я с командой военных мостовиков восстанавливал небольшой мостик для пропуска на восток колонны бронепоездов и двух эшелонов с тяжелоранеными. Выставив охранение, мы восстанавливали мост. Неприятельская батарея с Михайловского кладбища обстреливала нас и не давала работать. Бронепоезда были от нас в удалении 2–3 км за ж/д выемкой и не отвечали немецкой батарее. Я послал связного к начальнику бронепоездов с просьбой подавить огонь неприятеля.
Не прошло и 10 минут, как связной вернулся и доложил, что он задержал человека, который шел в сторону Михайловки, т. е. к немцам. Человек действительно был подозрительный: одет в гражданское и при оружии. Связного я послал выполнять приказание и стал выяснять личность задержанного. Задержанный мне предъявил удостоверение личности на имя Калинина (имя и отчество не запомнил), командира Киевского комсомольско-молодежного партизанского отряда. Его внешность и одежда подтверждали это. Высокий, чисто выбритый, с военной выправкой. Одет в хромовые военные сапоги, галифе, комсоставскую гимнастерку без знаков различия, подпоясан ремнем с портупеями, на ремне кожаная командирская сумка, планшет, пистолет, а ниже колен болтается маузер. Вместо шинели одет в доху шерстью вверх, на голове кожаная фуражка со звездочкой.
Посмотрев документы, я поинтересовался, почему он один, без отряда. Калинин предложил папироску и пригласил меня присесть.
– Пока мы покурим, отряд подойдет, – сказал он.
Мы закурили стоя. Не успели мы выкурить по папиросе, как к нам подошел человек высокого роста, стройный, худощавый, с длинным энергичным лицом и большим носом, с бравой казацкой выправкой. Одет он был с ног до головы в кожу: сапоги, брюки, тужурка и фуражка – все было сделано из черного хрома. Кожаный ремень с портупеями и командирские сумки дополняли его снаряжение, а большой кудрявый чуб, выглядывавший из-под кожаной фуражки, напоминал выдуманного героя времени империалистической войны Кузьму Крючкова. Он подошел Калинину и по-военному доложил:
– Товарищ комдив, вверенный Вам отряд прибыл и ожидает Ваших указаний.
Комдив принял рапорт и представил мне своего начальника штаба. Сомнения отпали, Калинин свой человек.
За это время подошли бронепоезда и открыли артиллерийский огонь по немецкой батарее. Комдив дал команду своему начальнику штаба поднять отряд в атаку. Начальник штаба по-уставному повторил приказ и пошел выполнять. Через некоторое время отряд молодых парней и девочек, человек 80–100, с криками «ура» пошел на Михайловку. Немцы стреляли по ним из пулеметов и винтовок, а ребята с криками «ура» шли, падали, поднимались и снова шли. Батарея замолчала, а пехота неприятеля не выдержала дружного напора комсомольцев и в панике бежала. Среди наступающих были раненые и убитые. После боя начальник построил отряд, и комдив поблагодарил партизан за службу и поздравил с первым успешным боем. Тут же похоронили убитых товарищей и салютом из автоматов и винтовок попрощались с ними. Командир отряда дал команду двигаться дальше, я поблагодарил комдива за помощь, попрощался с ним и ушел проверять готовность моста к пропуску бронепоездов.
И вот снова передо мною комдив Калинин, но уже военнопленный, постаревший, сгорбленный. Обидели меня его слова. Я выругался, а потом подумал про себя, что он прав, ведь он меня почти не знает. Мне стало его жалко, и я дал слово, что буду молчать и никому никогда ни при каких обстоятельствах ни одним словом не обмолвлюсь о нашем знакомстве. Еще несколько раз он навещал меня. В последний раз он рассказал мне, что в 1938 году был арестован, осужден тройкой и сидел до начала войны, поэтому у него нет нового военного звания. Высказал он это тоном предупреждения, мол, все сказанное им до этого как бы ликвидируется. Я понял его новое признание как своего рода громоотвод. Мне неизвестно, кто первым покинул Бориспольский лагерь, каким путем, Калинин прошел этап до Владимир-Волынского лагеря, но встретил я его там уже в другой роли.
Бориспольский лагерь для военнопленных был первым лагерем, где я увидел жизнь во всем ее многообразии. Мои раны на ногах заживали, меньше гноились, спала опухоль. Я начал понемногу ходить. Рана на плече не заживала и гноилась, плечо раздуло, и я был похож на горбуна, медленно передвигался по лагерю и присматривался к военнопленным. Много было таких, как я, были и более тяжелые, но самые тяжелые были в госпитале, и их дни были сочтены.
Подавляющее большинство пленных переносили плен не как личное горе, а как общегосударственную трагедию и старались вырваться из плена, оказывали содействие к побегу, помогали друг другу выжить, не допускать падения человеческого достоинства. В Бориспольском лагере, в этом море человеческого горя, на поверхность всплыли как г… в проруби все отбросы нашего общества – украинские националисты, жулики и мелкие политиканы от троцкистов. Вся эта свора пошла в лакеи к немецким фашистам. Живя в лагере на положении военнопленных, они выполняли роли шпионов, провокаторов, палачей. Выслеживали и выдавали в СС комиссаров, политработников, советских активистов, евреев. Клеветали на советские порядки, на свой народ, склоняли военнопленных к измене.
Особо нужно остановиться на ворах и спекулянтах. Хотя они и не провоцировали измены, не избивали военнопленных палками, но под покровительством немецкого командования и их приспешников обворовывали военнопленных и спекулировали их жизнью. В лагере действовала толкучка, где торговали котелками, ложками, табаком, гимнастерками, шинелями, часами, тряпками для перевязки ран. На этом рынке за кусочек хлеба можно было выменять сапоги или портсигар, шинель или часы, обручальное кольцо или белье. Обворовывая раненых, больных и умирающих, в погоне за наживой они лишали военнопленных куска хлеба и обрекали их на преждевременную смерть.
Уже в Борисполе, т. е. на первых порах существования лагерей, появились организации военнопленных, которые ставили своей задачей борьбу с этой саранчой. Это организации однополчан и землячества. Организации однополчан спасли много жизней военнопленных на этапах. Они переросли со временем в подпольную организацию советских патриотов.
2. Дорога от Борисполя до Владимир-Волынска
Наш сектор подняли рано утром, построили в походную колонну и подвели к воротам. Здесь ее плотным кольцом обступила команда автоматчиков с собаками. По замыслу немцев наша колонна должна была состоять из командного состава, но мы знали, что среди нас много солдат. В колонне на каждые 2–3 человека был один раненый, который без посторонней помощи пройти от Борисполя до Киева не мог.
Хотя мои ноги были в бинтах, с палкой и при поддержке Волошина и Завьялова я начал свой марш сравнительно хорошо. Конвой, вооруженный автоматами, карабинами с примкнутыми штыками и ручными пулеметами в сопровождении сторожевых собак, охватил колонну плотным кольцом, и колонна двинулась в путь. Шла она медленно и молча. Только неистовые крики конвоиров и лай собак нарушали молчание. Отставших тащили товарищи, и сами становились отставшими. Трупы военнопленных, оставленные на дороге впереди прошедшей колонной, напоминали о надвигающейся опасности. Из последних сил товарищи помогали друг другу. Конвой начинает торопить колонну: «Бистро, бистро», – и автоматными очередями в хвосте колонны. Три трупа остались на дороге, и снова команда двигается. Шли из последних сил измученные, усталые. Дорога казалась мучительно долгой и тяжелой. Шли мы по дороге, усыпанной трупами, добавляя к ним трупы наших товарищей. Шли без привалов, мучимые голодом и жаждой.
Так мы подошли к Днепру. Красавцы мосты, по которым я недавно ходил, ощетинившись грудой металла, выглядывали из воды. Нас провели по понтонному мосту в пустой мертвый город. Рядом со мной шли Волошин и Завьялов, коренные киевляне. В Борисполе они рассказывали мне, что семьи их эвакуированы из Киева, но они не теряли надежды, что кто-нибудь из знакомых заметит их и возьмет из лагеря. Напрасно они искали знакомых, улицы были пусты.
Вечером нас пригнали на Керосинку и поместили на территории детского сада. В Киеве мы пробыли несколько дней, немцы продолжали сортировать военнопленных. Заметно оживили свою работу агенты гестапо из числа военнопленных. Одна группа однополчан артиллеристов тщательно скрывала батальонного комиссара. В Киеве его забрали в гестапо и расстреляли. Как выяснилось, его выдал предатель. На следующее утро предателя нашли мертвым в выгребной яме.
В Киеве особенно стала заметна деятельность немецкой пропаганды, которая с рвением распространяла слухи о поражении Красной армии. Нам внушали, что вот-вот падут Москва и Ленинград, что война кончится в этом году. Но из-за проволоки доходили слухи, что в городе действуют подпольные диверсионные группы, что они взрывают здания, убивают немецких часовых и офицеров. Эти известия ободряли нас. В Киевском лагере мы узнали о неслыханном в истории злодеянии фашистов, о расстреле в Бабьем Яру нескольких тысяч мирных жителей Киева. Не пощадили звери ни малых детей, ни женщин, ни стариков. Немцы называли наш лагерь офицерским и, возможно, поэтому его содержали особенно строго. Появились в лагере гестаповские офицеры. Началась охота за коммунистами, комиссарами и евреями. Хотя охота была и раньше, она не носила того организованного начала, которое мы почувствовали в Киеве.
Если по этапам состав лагеря менялся, то после Борисполя он стал стабилизироваться. Военнопленные до некоторой степени узнали друг друга и сжились. Если раньше доносчики оставались незамеченными, то уже в Киевском лагере мы их знали в лицо, если не всех, то по крайней мере некоторых, и могли предупреждать предательство. Здесь в Киеве был открыт предатель Денисюк. Грузный, не потерявший своего живота даже в плену на лагерной баланде, прожорливый и неприхотливый до еды, с суровым лицом палача. Выдавал он себя за инженера из Днепропетровска. Уже в Киеве он предал товарищей. Свой провокационный разговор он, как правило, начинал словами: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Потом продолжал, что это не страна, а тюрьма, что в немецком плену легче и сытнее живется, чем при Советской власти на воле. Затем переходил к песне «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов» или «Мы чужой земли не хотим, но и своей и вершка не отдадим». После слов из песни начинал издевательские разговоры о Красной армии и Советской власти и продолжал до тех пор, пока не спровоцирует кого-либо на разговор. Урок однополчан-артиллеристов был достойным ответом провокаторам и предателям. Денисюк притих, чтобы во Владимир-Волынске развить более активно свою предательскую деятельность.
В конце октября, в ясное погожее утро, к лагерю подошла колонна крытых машин. Поступила команда строиться, и началась погрузка. Грузили до отказа. В сопровождении мотоциклистов и машины с вооруженной охраной лагеря начали вывозить. Машины работали целый день, доставляли военнопленных на станцию Васильков и там нас грузили в ж/д вагоны. Набивали до отказа, сколько мог вместить вагон людей стоя. Плотность была больше, чем в городском трамвае в часы пик. Невозможно было повернуться. Вагоны закрывались с наружной стороны. Погрузка была закончена поздно вечером. Судя по количеству вагонов и по плотности загрузки, в вагоны погрузили не один наш лагерь. Еще не отправился состав, а в нашем вагоне уже скончались. Вагоны не открывали, и мертвые следовали в вагоне до Житомира. В Житомире открыли вагоны, убрали трупы, за дорогу скончалось еще трое. Всех вывели из вагонов и пересчитали. Конвой почему-то нервничал, суетился. Оказывается, по дороге к Житомиру сбежал целый вагон пленных, в вагоне остались только мертвые и те, кто не мог двигаться. Побег они совершили через дыру, которую пропилили в полу вагона и прыгали на ходу поезда на железнодорожный путь между колесами, рискуя быть раздавленными.
Железнодорожный состав убрали, выбросили поврежденный вагон и снова поставили на старое место под погрузку. Началась погрузка. Хотя в каждом вагоне умерло по 5–6 человек, просторнее не стало. Снова нас запечатали и повезли дальше. Утром эшелон прибыл на ст. Шепетовка, его поставили у воинской платформы и военнопленных выгрузили. Снова сняли с каждого вагона по 4–6 трупов. В Шепетовке нас решили покормить. Загнали в какой-то пустой лагерь и выдали на каждые 10 человек по буханке хлеба-эрзаца и по литру баланды на каждого. Раненым пообещали оказать медицинскую помощь.
Мое плечо разнесло, на ногах снова загноились раны, повязки пропитались гноем. Военнопленный врач сделал мне перевязку моими стираными тряпками. Он промыл рану, смочил тряпки-тампоны в какой-то жидкости и начал начинять мою рану тряпками. Никогда я не думал, что человеку под кожу можно напихать столько тряпок. После перевязки почувствовал облегчение. Военврач был человек разговорчивый, он рассказал, что на этом месте был большой лагерь военнопленных, но пленные вымерли, а сейчас здесь что-то вроде продпункта, эшелоны останавливаются, чтобы покормить пленных. Так оно и было, нас покормили, снова погрузили в вагоны и повезли.
Начался самый трудный и тяжелый участок нашего пути. Стоя, в закупоренных вагонах нас везли в неизвестность. Со станцией Шепетовка мы расставались, как с родной матерью. Многие здесь служили. Много лет здесь был конец нашей земли – граница, и вот теперь мы ее покинули. Многим из нас не суждено было вернуться. Колеса монотонно стучали, как будто задавали вопросы: «Куда ты едешь? Куда ты едешь?».
Поезд нас вез на запад. Наблюдатели оповещали: проехали Здолбуново, Ровно, Киверцы, прибыли на станцию Ковель. «А куда дальше?» – задавал каждый себе вопрос.
Чем дальше запад, тем меньше шансов на спасение. В вагоне душно, многие уже не стоят, а висят, зажатые между товарищами. В вагоне уже восемь человек покойников, но никто вагонов не открывает. Наконец свисток, и поезд тронулся. Темно. Поезд минует какие-то станции, разъезды, подолгу стоит на остановках. За окнами брызжет рассвет. Началось утро седьмого ноября. Сегодня 24-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции. Этот день советский народ всегда встречал торжественно, по-особому празднично. Его и сегодня советский народ встречает в борьбе с врагами, полный веры в победу. А мы, граждане Великого Советского Союза, заперты в вагонах и ничем не можем помочь им. Такие мысли грызли каждого из нас. Слышно, как кто-то слабым голосом, почти шепотом запел «Широка страна моя родная». По голосу узнаю капитана Костякова. Ему подпевает такой же тихий голос, потом третий, четвертый, а затем весь вагон «От Москвы до самых до окраин…». Слышны крики часовых, стрельба. Песня постепенно затихает. Лязгают дверные задвижки. С шумом открываются двери. Струя свежего морозного воздуха врывается в вагон. Команда выходить из вагонов. Снова процедура проверки и 12 трупов. За время дороги от Киева до Владимир-Волынска, по нашим подсчетам, в эшелоне умерли около тысячи человек.


