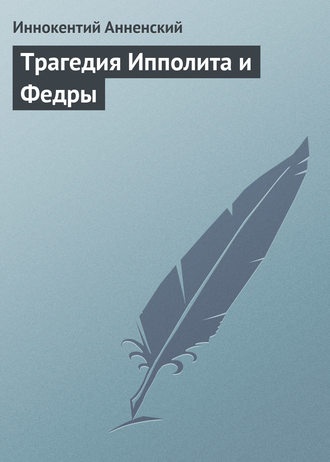
Иннокентий Анненский
Трагедия Ипполита и Федры
Наконец, Федра попадается на ее удочку; она начинает расспрашивать старуху. Тогда дело решается в одну минуту, и, не дав Федре даже времени сообразить происшедшего, кормилица убегает. Поспешность ее ухода, конечно, объясняется боязнью, что Федра поборет минутную слабость, но есть, может быть, и другая причина этой поспешности: надо пользоваться тем, что Ипполит дома и что товарищи его отдыхают; да и момент, в сущности, удобный: Федра не успела одуматься, и Ипполит один; кто знает, завтра может приехать Фесей, наконец, может быть, удастся унести лоскут одежды или как-нибудь иначе открыть кампанию.
Во втором «Ипполите» Еврипид освободил себя от трудной сцены признания и вместе с тем лишил себя эффекта, который, начиная с Сенеки-трагика, пленяет поэтов едва ли не более трагедии самого Ипполита, но взамен этого он дал нам тонко художественную и сложную по эффектам сцену между Ипполитом, кормилицей и молчаливой Федрой. Сцена начинается неясным шумом, который слышится еще в конце красивого музыкального антракта. Шум усиливается; в его промежутках, урывками, может быть, именно в те минуты, когда на гневные возгласы Ипполита робко оправдывается старая рабыня, между хором и Федрой идет несвязный разговор. Ужас женщин растет с каждой минутой, но все внезапно застывает, лишь только на сцену выходит Ипполит, а за ним, цепляясь за его плащ и ловя руки, влечется несвязно лепечущая и насмерть перепуганная старуха. Присутствие Федры при разговоре ее кормилицы с Ипполитом и позже, при его страстной тираде против женщин, – это один из тех тонких эффектов, которые особенно любил Еврипид; эта молча переживаемая драма похожа на ту неясную мелодию, которая иногда грезится нам и заставляет нас плакать под банальный аккомпанемент шарманки.[29] Великий символист античной драмы умел внушать с силой, которая не ослабела в течение двух с половиной тысячелетий.
Вспомните у него молчаливую игру Ифигении-жрицы[30] в сцене признания (788–802) или сцену его Фесея с Гераклом, когда убийца, опомнившийся в ужасе, плащом завесил себе лицо.
За четверть часа своего молчания Федра, которая перед тем всего на одну минуту из несчастной стала грешной, обращается в злобную преступницу, по крайней мере для миллионов, для толпы.
Из конца разговора между Ипполитом и кормилицей Федра поняла, что кормилица грубо открыла Ипполиту ту тайну, которую она сама не смела сказать себе даже во сне. И вот гнев Ипполита чередуется только с его глубоким презрением, а Федра во все время, как обмена фраз, так и монолога, чувствует, что Ипполит, только не желая наносить отцу нового оскорбления, делает вид, будто ее не замечает, но что на самом деле все его злобные и горькие тирады не только вдохновлены ею, Федрою, но прямо против нее направлены, а местами будто рассчитаны даже на то, что она их слышит.
Злая дерзость нападок Ипполита соединяет в себе весь лиризм непосредственного обличения с торжествующей свободой заглазной критики. Если в речи Федры нам чувствовалось тоже местами прикрытое обличение гинекея перед его представительницами и даже не без намеков на его гения кормилицу, то по лирической силе между двумя монологами не может быть, конечно, никакого сравнения. Речь Федры подготовлялась целым рядом бессонных ночей и мучительных дней, она дышит холодным отчаянием, тоской, в которой остался только отзвук страсти. Но совершенно не таков монолог Ипполита.
Он начинается прямо с задорного, чисто юношеского парадокса (я забываю на эту минуту о признаниях самого Еврипида): «Отчего только людям не дано покупать себе за золото из храмов детей и для столь важной задачи создана богами такая лживая и вредная разновидность человека, как женщина». А далее все, что говорит царевич, как бы ни согласовались слова его с сущностью его воззрений и самой природой сына осиленной амазонки, – все вызвано моментом, все почти с силой выкинуто со дна взбудораженной души и мечется в беспорядке, срываясь с побелевших от гнева губ.







