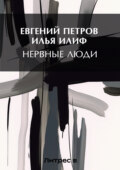Илья Ильф
Светлая личность
Глава IX
Юридический панцирь
Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Иванопольский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.
Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял:
– Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!
Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».
– Загорелся сыр божий, – сказал он.
Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.
– Как ваше мнение, Петр Каллистратович? – спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.
Насторожился и Брак.
– Мое такое мнение, – объявил гость, – что Прозрачному нужно пришить дело.
Мысль, высказанная Иванопольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали.
– Скажите, – вымолвил наконец Каин Александрович, – правильно ли я вас понял? Пришить дело?
– Это немыслимо! – вскричал Брак.
Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно не чищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.
– Пришить дело. Безусловно.
– Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку?
– Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?
– Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.
– Вот и убирайте. Я вам дал идею.
– Не шутите, Иванопольский! – закричал вдруг Брак. – Какое может быть дело?! Филюрин физически не существует.
– Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната? Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный – лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.
– Хорошо, – заволновался Доброгласов, – допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда!
– Если он сделает эту глупость, он погиб! – спокойно сказал Иванопольский. – Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен.
– А если явится?
– Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем.
Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облекающий физическое тело Петра Каллистратовича.
– Ладно. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?
– Прозрачный, конечно!
– Так он вам и пойдет туда! А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?
– Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И, наконец, зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача – посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!
Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.
– Я человек скромный, – сказал Иванопольский, – но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.
После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал:
– Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?
Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому, была бы охота, повеселевший Иванопольский ушел.
Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.
Некоторое утешение Иванопольский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам – только до одиннадцати часов вечера.
Иванопольский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом деле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.
На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.
Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью:
«Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».
Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.
Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.
Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю.
Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.
Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике Невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.
– Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом, – осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.
– Нет, нельзя, – ответил Евсей, – получится какая-то видимость, а это уже не то.
– Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! – воскликнул Шац.
– Вроде Вандомской?
– Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.
– Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.
– Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам – портики, для прогулки граждан.
– И сквер!
– И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник!
Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.
Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.
Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.
– Что с вами? – пошутил Евсей Львович. – У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.
Пташников замялся.
– Или отравление уриной? – приставал начальник.
Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.
– Вы слышали новость, Евсей Львович? – спросил он, с опасением поглядывая на дверь. – Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.
– Что за глупости!
– Честное слово, говорят.
– От кого?
– От бывшей его квартирной хозяйки.
– Какие глупости! – вскричал Иоаннопольский.
Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.
– Чепуха! – проговорил он менее уверенным тоном.
– Нет, нет! Говорят, совершенно точно!
– Ну что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!
– Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!
Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:
– Пташников! Вас надо изжить! Воленс-неволенс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.
– При чем тут я? – оправдывался знахарь. – Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.
– Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!
Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.
– Квартирохозяйка подала в суд!
– Чего же она хочет?
– Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.
– Как? Кто смеет возмущаться?
– Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!
– Это ложь! – завопил Евсей. – Они этого не докажут!
– А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.
Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.
Иоаннопольский знал силу сплетни.
«Хорошо, – думал он, – бегая вдоль стены кабинета. – Суд – это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен…»
– А я здесь! – раздался голос Прозрачного.
– Егор Карлович? – спросил Иоаннопольский. – Ну так говорите тише.
– Что новенького в отделе? – сказал Прозрачный. – Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?
Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.
– Разве это про меня говорят? – удивился невидимый. – Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.
Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал:
«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не прозрачный».
– Еще можно все поправить, – сказал Евсей Львович, – вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?
– С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума посходили, что ли?
– В таком случае я ничего не понимаю! – воскликнул Евсей Львович. – Вы, серьезно, с ней не жили?
– Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!
– Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.
И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.
Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.
– Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади, под открытым небом! – закончил доброжелатель.
После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.
– Едемте ко мне! – торопил Евсей. – Нужно обсудить! Принять меры!
Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.
Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до диез.
– Вот он! – вопила она. – Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!
– Бегите! – шепнул Евсей.
Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:
– На, подлец! Возьми своего ребенка!!!
Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:
– Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный!
Евсей Львович был вне себя.
– Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!
И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.
– Он убежал! – надрывалась мадам Безлюдная. – Последний босяк этого не сделал бы.
Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.
Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брака.
А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Иванопольский.
Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.
Глава X
«Вопросов больше не имею»
Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.
– Ну, как насчет пыщи? – хохотал Николай Самойлович.
– Живое дело! – отвечал Иванопольский. – Говорю вам это как юридическое лицо юридическому лицу!
А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу: «Приема нет».
В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью: «Приема нет!»
И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:
– Приама нет! Приема нет!
– Приема нет! – кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.
Все предвещало победу и обильную «пыщу», которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.
В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.
Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп – просто глупая болтовня пьяной бабы.
Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда преждевременно.
Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивал свои показания (он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью), то исход дела казался ему безнадежным и мысли его обращались к американским родственникам – Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским – родным и богатым братьям Евсея Львовича.
«Не лучше ли бросить, – думал он, – всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»
Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.
На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.
– Евсей! – говорил Прозрачный плачущим голосом. – Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!
Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.
Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.
Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судейском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик.
– Я не хочу платить алименты! – тосковал Филюрин. – Невидимый не должен платить алименты. Мало того что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!
– Так вы смотрите, – увещевал Иоаннопольский, – говорите громко и медленно. Слышите?
– Да, слышу, слышу, – уныло отвечал Прозрачный, – вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.
Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:
– Суд идет! Прошу встать!
Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.
Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радиозвонками, нарсудья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:
– Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!
Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.
– А я здесь! – прокричал Прозрачный.
Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум – заседание начиналось общим сочувствием истице.
Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Иванопольский. Доброгласов и Брак таились где-то в глуби. Евсей Львович в соломенной шляпе «канатье» и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям. За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.
Вдова с плачем давала объяснения.
Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.
– Не кажется ли это суду подозрительным? – с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Каллистратович Иванопольский.
«Это жулик, – хотелось крикнуть Евсею, – не верьте ему».
Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.
– Уведите этого гражданина! – сказал судья курьеру.
Иванопольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.
– И я прошу, – закончила вдова, – чтобы суд заклеймил обманщика и…
– И воочию показал, – не мог удержаться Иванопольский, – что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал…
Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.
– Не кажется ли суду подозрительным, – сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая «канатье», – что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?
– А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?
Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.
– Филюрин, Егор Карлович, – сказал судья, – дайте ваши объяснения.
Стало так тихо, что слышно было, как на Тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.
– Что же говорить, товарищ судья! – грустно молвил Прозрачный. – Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей.) Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклицание Евсея Львовича.) Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?
– Можете.
– Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?
– Не подумала как-то, – ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском.
– Больше вопросов не имею! – закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.
– Выведите этого гражданина, – сказал судья.
И судоговорение продолжалось.
Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем.
Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.
Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.
Навербованные Иванопольским свидетели оказались всесторонне осведомленными.
Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.
Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16 по проспекту им. Лошади Пржевальского.
Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вываляна в пыли.
Ввели Иванопольского.
– Вы что, пришли как свидетель? – спросил судья.
– Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу, – с жаром сказал Петр Каллистратович.
– Выведите его, – страдальчески сказал судья, – и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?
– Четыре раза, – ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер.
Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.
Евсей долго вытирал лысину, прижимал «канатье» к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:
– Больше вопросов не имею.
– Вы и не можете их иметь! – сказал измочаленный судья. – Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.
– Мало того что я невидимый, – послышался рыдающий голос, – она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.
– Прошу выбирать выражения! – сказал судья.
– Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.
– Держитесь ближе к делу.
Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.
– Товарищ судья…
Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.
На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека.
Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон.
Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его натуральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.
«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие.
Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой.
– Согласен! – закричал он, обнимая судью голой рукой. – На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!
Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.
Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу доступных только непрозрачным людям чертовски приятных вещей.