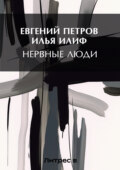Илья Ильф
Лучшие произведения в одном томе
Команды «Санта-Клара» и «Христиан-Тексас» были почти одинаковой силы. Христианские молодые люди Техаса были немного сильнее. Почти во всех схватках тактика их сводилась к тому, что игрок, получивший мяч, бросался головой вперед в самую гущу санта-кларовцев и старался выиграть хотя бы дюйм расстояния. Его сейчас же валили. Начиналась новая схватка, и опять выигрывался дюйм. Это напоминало атаку на Западном фронте во время мировой войны, когда после трехдневной артиллерийской подготовки частям удавалось продвинуться на сто метров вперед. Медленно и неуклонно техасцы подвигались к воротам санта-кларовцев. Напряжение все усиливалось. Все громче кричали молодые люди в шапках набекрень. Теперь все наше внимание было устремлено на публику.
На трибуне стадиона друг против друга сидели студенты университетов, «болеющих» за свои команды. С нашей стороны сидели несколько тысяч санта-кларовцев в красных фуражках, со своим оркестром. Напротив нас весь центр трибун занимали специально приехавшие из Техаса христианские молодые люди в белых фуражках и тоже со своим оркестром.
Когда до последней линии «Санта-Клары» оставалось футов двадцать, техасцы поднялись со своих мест, сняли белые фуражки и, ритмично размахивая ими в сторону ворот противника, принялись кричать под команду дирижера оркестра:
– Гоу! Гоу! Гоу!
В точном переводе это значит «иди!», но скорее это надо было понимать: «Вперед! Вперед! Вперед!»
Оркестр тоже вскочил и, подымая трубы к самому небу, издавал в такт «Гоу! Гоу!» какофонические звуки.
Санта-кларовцы в своих красных фуражках понуро молчали. К перерыву победительницей вышла команда «Христиан-Тексас». Новый позор свалился на голову бедных студентов «Санта-Клары». По традиции в перерыве играет обычно оркестр победителей. И вот, в то время как игроки, выплевывая травку и выковыривая ее из ноздрей и ушей, приводили себя в порядок, чтобы приготовиться к следующему тайму, – затрещала барабанная дробь, взвыли фанфары, и на поле парадным маршем вышел белый оркестр «Христиан-Тексас». Впереди шел тамбурмажор, делая танцевальные па и виртуозно играя тонкой булавой. Оркестр исполнил марш университета. При этом сидевший без дела оркестр «Санта-Клары» испытывал такие страдания, какие, вероятно, испытывал Вагнер, слыша ненавистные звуки «Травиаты». А подлый оркестр противников все играл и играл. Теперь музыканты исполняли модные фокстроты и песенки, шагая гуськом по полю, сходясь, расходясь и выделывая различные фигуры. Дирижер извивался всем телом, выбивал чечетку и нарочно делал всякие нахальные телодвижения, чтобы раздразнить и уничтожить пораженных врагов.
Начался следующий тайм.
За стенами стадиона были видны уходящие вверх и вниз дома Сан-Франциско, тесно и свежо зеленели деревья садов, травяная площадка блестела на солнце, а легкий аромат водорослей, устриц, юности и счастья, несшийся от океана, смешивался с приторным аптекарским запахом виски. Публика для подогревания энтузиазма и в память о «сухом законе» вынимала из кармана плоские бутылочки и глотала виски прямо из горлышка, тут же на трибунах.
И снова началась интересная потасовка. На этот раз «Санта-Клара» начала недурно. Линия борьбы все ближе и ближе подходила к воротам христианских молодых людей. Тут поднялись красные фуражки. И санта-кларовские ребята принялись накачивать своих футболистов.
– Гоу! Гоу! Гоу! – кричали они звонкими юношескими голосами.
Оркестр «Санта-Клары», вскочив на скамейки, устроил такой музыкальный сумбур, что от него одного проклятые и нахальные христианские молодые люди должны были обратиться в пепел. С каждым новым свистком судьи линия игры подвигалась к воротам техасцев. Санта-кларовцы буквально лбом пробивали путь и завоевывали дюймы и футы зеленой травки. Понукаемые криками, они сгибались в три погибели и, как бодливые козлы, бросались головою в стену, состоящую из вражеских животов.
– Санта-Клара! – надрывались над нами какие-то молодые люди. – Санта-Клара! Гоу! Гоу!
Глаза их были вытаращены. Рты широко раскрыты. К зубам прилипли позабытые жевательные резинки. Близился час расплаты.
И вдруг произошло нечто ужасное. Произошло такое, от чего обе враждующие трибуны поднялись и издали единый раздирающий крик, в котором было все – и торжество, и гордость, и ужас. Одним словом, это был универсальный крик, самый громкий крик, на который только способны тридцать тысяч человек. Лучший футболист «Христиан-Тексаса» неожиданно схватил мяч и помчался к воротам «Санта-Клары». Ему нужно было пересечь все поле. Ему бежали навстречу, за ним гнались сзади, его пытались схватить за ноги сбоку. Ему бросились под ноги наиболее отчаянные защитники «Санта-Клары». Но маленький футболист, прижав мяч к животу, все бежал и бежал. Это было какое-то чудо. Сперва он бежал по краю поля, потом резко свернул на середину. Он перепрыгнул через бросившегося ему под ноги санта-кларовца и ловко увильнул от десятка тянувшихся к нему рук. Трудно передать волнение публики. Наконец игрок пробежал последнюю линию и остановился. Это было все. «Христиан-Тексас» выиграл. Наша трибуна была посрамлена. Противоположная – бурно ликовала.
Глава 33
«Русская горка»
Мы вернулись с футбола в прекрасном настроении и наперерыв принялись рассказывать Адамсам о наших футбольных впечатлениях. Адамсы не пошли с нами на футбол, решив воспользоваться этим временем, чтобы сходить на почту.
– Не говорите мне про футбол, – сказал нам мистер Адамс. – Это ужасная, варварская игра. Нет, серьезно, мне больно слушать, когда вы говорите про футбол. Вместо того чтобы учиться, молодые люди занимаются черт знает чем. Нет, серьезно, не будем говорить про эти глупости.
Мистер Адамс был чем-то расстроен. Перед ним лежали большой лист бумаги, сплошь испещренный цифрами и какими-то закорючками, и маленькая посылочка.
– Значит, так, Бекки, – сказал он, – шляпа в Сан-Франциско еще не пришла. А ведь мы послали в Санта-Фе распоряжение переслать шляпу именно в Сан-Франциско!
– Ты твердо помнишь, что в Сан-Франциско? – спросила миссис Адамс. – Мне почему-то казалось, что в последний раз ты просил переслать шляпу в Лос-Анжелос.
– Нет, нет, Бекки, не говори так. У меня все записано.
Мистер Адамс снял очки и, приблизив бумагу к глазам, принялся разбирать свои записи.
– Да, да, да, – бормотал он, – вот. По последним сведениям, шляпа была переслана из Детройта в Чикаго. Потом в Сан-Луи. Но так как мы не поехали в Сан-Луи, я письменно распорядился послать шляпу в Канзас. Когда мы были в Канзасе, шляпа еще не успела туда прийти.
– Хорошо, – сказала миссис Адамс, – это я помню. В Санта-Фе мы забыли пойти на почту, и ты писал им письмо из Лас-Вегас! Помнишь, одновременно с этим ты послал ключ в Грэнд-кэньон. Не спутал ли ты адреса?
– Ах, Бекки, как ты можешь так подумать! – простонал мистер Адамс.
– Тогда что это за посылка? – воскликнула Бекки. – Она такая маленькая, что в ней не может быть шляпы!
Супруги Адамс пришли с почты только что и еще не успели открыть посылочки. Ящичек вскрывали долго и аккуратно, горячо обсуждая, что в нем может содержаться.
– А вдруг это мои часы из Грэнд-кэньона! – заметил мистер Адамс.
– Как это могут быть часы из Грэнд-кэньона, если ящичек выслан из Санта-Фе!
Наконец посылку вскрыли. В ней лежал ключ с круглой медной бляхой, на которой была выбита цифра «82».
– Так и есть! – воскликнула миссис Адамс.
– Что «так и есть», Бекки? – льстиво спросил мистер Адамс.
– Так и есть! Это ключ от номера в Грэнд-кэньоне, который ты по ошибке послал в Санта-Фе на почту. А распоряжение о пересылке шляпы ты, очевидно, послал в Грэнд-кэньон, в кэмп. Я думаю, просьба возвратить часы, которые я тебе подарила, тоже вместо Грэнд-кэньона попала в Санта-Фе.
– Но, Бекки, не говори так опрометчиво, – пробормотал мистер Адамс. – Почему обязательно я во всем виноват? Нет, серьезно, Бекки, я призываю тебя к справедливости. Тем более что это все легко исправить. Мы напишем… Да… Куда же мы напишем?
– Прежде всего надо послать ключ и этот проклятый плед, который ты захватил во Фрезно.
– Но, Бекки, ведь я оставил во Фрезно бинокль, а он, я думаю, дороже пледа.
– Хорошо. Значит, ключ – в Грэнд-кэньон, плед – во Фрезно, а в Санта-Фе – насчет часов… То есть нет, насчет часов – в Грэнд-кэньон, а в Санта-Фе надо прежде всего послать извинение. Затем…
– А шляпа, Бекки? – ласково спросил мистер Адамс.
– Да погоди ты! Да, шляпа. Со шляпой мы сделаем так…
В это время раздался стук в дверь, и в комнату вошел человек огромного роста, с широкими круглыми плечами и большой круглой головой, на которой сидела маленькая кепка с пуговкой. Человек этот, очевидно чувствуя величину своего тела, старался делать совсем маленькие шажки и при этом ступать как можно тише. Тем не менее паркет под ним затрещал, как будто в комнату вкатили рояль. Остановившись, незнакомец сказал тонким певучим голосом на превосходном русском языке:
– Здравствуйте. Я к вам от нашей молоканской общины. Вы уж пожалуйста. Это уж у нас такой порядок, если кто из России приезжает… Просим пожаловать на наше молоканское чаепитие. У меня и автомобиль с собой, так что вы не беспокойтесь.
Мы много слышали о русских молоканах в Сан-Франциско, оторванных от родины, но, подобно индейцам, сохранивших язык, свои нравы и обычаи.
Через пять минут мистер Адамс и посланец молоканской общины были друзьями. Мистер Адамс показал хорошее знание предмета и ни разу не спутал молокан с духоборами или субботниками.
По пути на Русскую горку, где живут сан-францисские молокане, наш проводник рассказывал историю их переселения.
Когда-то, давным-давно, молокане жили на Волге. Их притесняло царское правительство, подсылало к ним попов и миссионеров. Молокане не поддавались. Тогда их переселили на Кавказ, куда-то в район Карса. Они и там, в новых местах, принялись делать то, что делали веками, – сеять хлеб. Но жить становилось все труднее, преследования делались ожесточеннее, и молокане решили покинуть родную страну, оборотившуюся к ним мачехой. Куда ехать? Люди едут в Америку. Поехали в Америку и они – пятьсот семейств. Было это в тысяча девятьсот втором году. Как они попали в Сан-Франциско? Да так как-то. Люди ехали в Сан-Франциско. Поехали в Сан-Франциско и они. Нашему гиганту провожатому было на вид лет сорок. Значит, попал он в Америку шестилетним мальчиком. Но это был такой русский человек, что даже не верилось, будто он умеет говорить по-английски. В Америке молокане хотели по-прежнему заняться хлебопашеством, но на покупку земли не было денег. И они пошли работать в порт. С тех пор сан-францисские молокане – грузчики. В городе молокане поселились отдельно на горке, постепенно настроили домиков, выстроили небольшую молельню, которую торжественно называют «Молокан-черч», устроили русскую школу, и горка стала называться «Русской горкой». Октябрьскую революцию молокане встретили не по-молокански, а по-пролетарски. Прежде всего в них заговорили грузчики, а уж потом молокане. Впервые за свою жизнь люди почувствовали, что у них есть родина, что она перестала быть для них мачехой. Во время коллективизации один из уважаемых молоканских старцев получил от своих племянников из СССР письмо, в котором они спрашивали у него совета – входить им в колхоз или не входить. Они писали, что другой молоканский старец в СССР отговаривает их от вступления в колхоз. И старый человек, не столько старый молоканский проповедник, сколько старый сан-францисский грузчик, ответил им – вступать. Этот старик с гордостью говорил нам, что теперь часто получает от племянников благодарственные письма. Когда в Сан-Франциско приезжал Трояновский, а потом Шмидт, молокане встречали их цветами.
Мы долго ехали по городу, подымаясь с горки на горку. Кажется, проехали китайский квартал.
– А вот и Русская горка, – сказал наш могучий драйвер, переводя рычаг на вторую скорость.
Машина зажужжала и принялась карабкаться по булыжной мостовой вверх.
Нет, тут ничего не напоминало Сан-Франциско! Эта уличка походила скорей на окраину старой Тулы или Калуги. Мы остановились возле небольшого дома с крыльцом и вошли внутрь. В первой комнате, где на стене висели старинные фотографии и вырезанные из журналов картинки, было полно народу. Тут были бородатые, пожилые люди в очках. Были люди и помоложе, в пиджаках, из-под которых виднелись русские рубашки. Точно такую одежду надевали русские дореволюционные рабочие в праздничный день. Но самое сильное впечатление произвели женщины. Хотелось даже провести рукой по глазам, чтобы удостовериться, что такие женщины могут быть в тысяча девятьсот тридцать шестом году, и не где-нибудь в старорусской глуши, а в бензиново-электрическом Сан-Франциско, на другом конце света. Среди них мы увидели русских крестьянок, белолицых и румяных, в хороших праздничных кофтах с буфами и широких юбках, покрой которых был когда-то увезен из России, да так и застыл в Сан-Франциско без всяких изменений; увидели рослых старух с вещими глазами. Старухи были в ситцевых платочках. Это бы еще ничего. Но откуда взялся ситец в самую настоящую цинделевскую горошинку! Женщины говорили мягко и кругло, певучими окающими голосами и, как водится, подавали руку лопаточкой. Многие из них совсем не умели говорить по-английски, хотя и прожили в Сан-Франциско почти всю свою жизнь. Собрание напоминало старую деревенскую свадьбу, когда все уже в сборе, а веселье еще не начиналось.
Почти все мужчины были высокие и плечистые, как тот первый, который за нами заехал. У них были громадные руки – руки грузчиков.
Нас пригласили вниз. Внизу было довольно просторное подвальное помещение. Там стоял узкий длинный стол, уставленный пирожками, солеными огурцами, сладким хлебом, яблоками. На стене висели портреты Сталина, Калинина и Ворошилова. Все расселись за столом, и началась беседа. Нас расспрашивали о колхозах, заводах, о Москве. Подали чай в стаканах, и вдруг самый огромный из молокан, довольно пожилой человек в стальных очках и с седоватой бородкой, глубоко набрал воздух и запел необычайно громким голосом, сначала показалось даже – не запел, а закричал:
Извела меня кручина,
Подколодная змея.
Догорай, моя лучина,
Догорю с тобой и я.
Песню подхватили все мужчины и женщины. Они пели так же, как и запевала, – во весь голос. В этом пении не было никаких нюансов. Пели фортиссимо, только фортиссимо, изо всех сил, стараясь перекричать друг друга. Странное, немного неприятное вначале, пение становилось все слаженнее. Ухо быстро привыкло к нему. Несмотря на громкость, в нем было что-то грустное. В особенности хороши были бабьи голоса, исступленно выводившие высокие ноты. Такие вот пронзительные и печальные голоса неслись куда-то над полями, в сумерки, после сенокоса, неустанно звенели, медленно затихая и смешиваясь наконец со звоном сверчков. Люди пели эту песню на Волге, потом среди курдов и армян, возле Карса. Теперь поют ее в Сан-Франциско, штат Калифорния. Если погнать их в Австралию, в Патагонию, на острова Фиджи, они и там будут петь эту песню.
Песня – вот все, что осталось у них от России. Потом человек в очках подмигнул нам и запел:
Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой,
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.
Мистер Адамс, который уже несколько раз вытирал глаза и был растроган еще больше, чем во время разговора с бывшим миссионером о мужественных индейцах наваго, не выдержал и запел вместе с молоканами.
Но тут нас ожидал сюрприз. В словах: «Черные дни миновали, час искупленья настал» – молокане сделали свою идеологическую поправку. Они спели так: «Черные дни миновали, путь нам Христос указал». Мистер Адамс, старый безбожник и материалист, не разобрал слов и бодро продолжал петь, широко раскрывая рот.
Когда песня окончилась, мы спросили, что означает это изменение текста.
Запевала снова значительно подмигнул нам и сказал:
– У нас песенник есть. Мы поем по песеннику. Только это – баптистская песня. Мы ее так специально для вас спели.
Он показал сильно потрепанную книжицу. В предисловии сообщалось:
«Песни бывают торжественные, унывные и средние».
«Путь нам Христос указал» – очевидно, считается средней.
Для того чтобы доставить нам удовольствие, молокане с большим воодушевлением спели песню Демьяна Бедного – «Как родная меня мать провожала», спели полностью, строчка в строчку, а затем долго еще пели русские песни.
Потом опять была беседа. Разговаривали друг с другом о разных разностях. Расспрашивали нас, нельзя ли устроить возвращение молокан на родину.
Рядом с нами заспорили два старика.
– Вся рабства под солнцем произошла от попов, – сказал один старик.
Другой старик согласился с этим, но согласился в тоне спора.
– Мы двести лет попам не платили! – воскликнул первый.
Второй с этим тоже согласился, и опять в тоне спора. Мы в эту двухсотлетнюю распрю не вмешивались.
Пора было уходить. Мы распрощались с нашими радушными хозяевами. Напоследок, уже стоя, молокане повторили «Как родная меня мать провожала», – и мы вышли на улицу.
С Русской горки хорошо был виден светящийся город. Он распространился далеко во все стороны. Внизу кипели американские, итальянские, китайские и просто морские страсти, строились чудесные мосты, на острове в федеральной тюрьме сидел Аль Капонэ, а здесь в какой-то добровольной тюрьме сидели люди со своими русскими песнями и русским чаем, сидели со своей тоской огромные люди, почти великаны, потерявшие родину, но помнящие о ней ежеминутно и повесившие в память о ней портрет Сталина.
Глава 34
Капитан Икс
Жалко было покидать Сан-Франциско. Но Адамсы были неумолимы – все путешествие должно было уложиться в два месяца, и ни одним днем больше.
– Да, да, сэры, – говорил мистер Адамс, сияя, – мы не должны мучить нашу бэби больше чем шестьдесят дней. Мы получили сегодня письмо. На прошлой неделе бэби повели в зоологический сад и показали ей аквариум. Когда бэби увидела столько рыб сразу, она закричала: «No more fish!» – «Не надо больше рыб!» Наша бэби скучает. Нет, нет, сэры, мы должны ехать как можно скорее.
Полные сожаления, мы в последний раз проезжали по живописным горбатым улицам Сан-Франциско. Вот в этом маленьком сквере мы могли посидеть на скамеечке и не посидели, по этой шумной улице мы могли бы гулять, но не были на ней ни разу, вот в этом китайском ресторанчике могли бы расчудесно позавтракать, но почему-то не позавтракали. А притоны, притоны! Ведь мы забыли самое главное – знаменитые притоны старого Фриско, где шкиперы разбивают друг другу головы толстыми бутылками от рома, где малайцы отплясывают с белыми девушками, где дуреют от опиума тихие китайцы. Ах, забыли, забыли! И уже ничего нельзя поделать, надо ехать!
Мы уносились все дальше и дальше от Сан-Франциско по дороге, проложенной вдоль океана. Еще вчера мы были в Калифорнийском университете. Мы видели профессора славянской литературы, мистера Кауна, и он, держа в руках книжку рассказов Льва Толстого на татарском языке, рассказывал своим студентам о национальной политике СССР, о культурном развитии народов. Маленький, седой и элегантный, профессор перемежал свою лекцию остротами, несколько десятков молодых людей внимательно слушали о далекой стране с новым и удивительным укладом жизни. Вечер мы провели в домике профессора, на берегу Сан-Францисской бухты, возле Беркли. Мистер Каун пригласил к себе человек пятнадцать своих лучших студентов. Пылал камин, молодые люди и девушки сидели на полу, болтали, щелкали китайские орешки. Одна из девушек поднялась, ушла куда-то и через десять минут вернулась с мокрыми распущенными, как у русалки, волосами. Она купалась в заливе. На кухне, в большом деревянном ящике спали шесть новорожденных щенков. Профессор часто ходил туда и, умиленно сложив руки, смотрел на песиков. Потом мы вышли на берег залива и, озаренные лунным светом, бродили по песчаному пляжу. Молодые люди сели в кружок и хором спели несколько студенческих песен. Сначала была исполнена боевая песня «медведей», направленная против станфордских студентов, заклятых врагов Калифорнийского университета на футбольном поле. Студенты Калифорнийского университета называют себя «медведями». Напевшись вдоволь (пели они довольно стройно, но жидковато: один молоканин мог бы заглушить их своим голосом), они рассказали нам, что в Калифорнийском университете учится студент восьмидесяти четырех лет от роду. Движет им не только необычайная любовь к знаниям. Есть еще одно обстоятельство. Давно-давно, когда этот более чем старый студент был юношей, он получил от дяди наследство. По точному смыслу завещания, наследник должен был пользоваться процентами с огромного капитала до тех пор, пока не окончит университета. После этого наследство должно было быть обращено на благотворительные цели. Таким образом дядя-бизнесмен хотел убить наповал двух зайцев – дать образование племяннику и замолить перед богом грехи, неизбежно связанные с быстрым обогащением. Но племянник оказался не меньшим бизнесменом, чем дядя. Он записался в университет и с тех пор числится студентом, получая проценты с капитала. Продолжается это хамство уже шестьдесят пять лет, и покойный дядя-бизнесмен никак не может перекочевать из ада в рай. В общем, забавный случай в истории Калифорнийского университета.
Все это было вчера, а сегодня, обдуваемые океанским ветром, мы мчались по «Золотому штату», направляясь к Лос-Анжелосу. Проезжая городок Монтерей, мы увидели возле одного деревянного дома памятную доску: «Здесь жил Роберт Льюис Стивенсон вторую половину 1879 года». Мы ехали по дороге не только удобной и красивой, но и какой-то щеголеватой. Все вокруг казалось щеголеватым – и светлые домики, и пальмы, листья которых блестели так, как будто их только что выкрасили эмалевой зеленой краской, и небо, вид которого ясно показывал, что дожидаться появления на нем облаков безнадежное дело. Только океан гремел и бесновался, как неблаговоспитанный родственник на именинах в порядочном семействе.
– Сэры, – сказал мистер Адамс, – вы едете по одному из немногих мест в Соединенных Штатах, где живут рантье. Америка это не Франция, где рантье встречаются в каждом городе. Американцы почти никогда не останавливаются на какой-то заранее установленной сумме – они продолжают добывать и добывать. Но находятся чудаки, которые решают вдруг предаться отдыху. Чаще всего это бывают не очень богатые люди, потому что богатый человек может устроить себе Калифорнию даже в своем нью-йоркском доме. Калифорния привлекает дешевизной жизни и климатом. Смотрите, смотрите! В этих домиках, которые мы сейчас проезжаем, живут маленькие рантье. Но не только рантье живут в Калифорнии. Иногда попадаются представители особой человеческой породы – американские либералы. Сэры! Наши радикальные интеллигенты – честные, хорошие люди. Да, да, сэры, было бы глупо думать, что Америка – это только стандарт, только погоня за долларами, только игра в бридж или поккер. Но, но, сэры! Вспомните того молодого мистера, у которого мы провели вечер недавно.
«Молодой мистер», старый знакомый Адамса, происходил из аристократической семьи. Родители его были очень богаты. Он получил прекрасное воспитание, и его ожидала легкая, утонченная жизнь, без забот и дум, с тремя автомобилями, гольфом, красивой и нежной женой, вообще всем, что только могут дать в Америке богатство и происхождение из пионерской семьи, предки которой высадились на «Мэйфлауэре» несколько веков назад. Но от всего этого он отказался.
Мы пришли к нему поздно вечером (это было в большом промышленном городе). У него была наемная квартира, состоящая из одной просторной комнаты с газовым камином, пишущей машинкой, телефоном и почти без мебели. Хозяин и его жена, немецкая коммунистка, были не по-американски бледны. Это была бледность людей, рабочий день которых не регламентирован и слишком часто простирается за полночь, людей, у которых нет ни времени, ни денег, чтобы заниматься спортом, людей, питающихся как попало и где попало и полностью отдающих себя избранному делу.
Убедившись в несправедливости капиталистического строя, молодой человек не ограничился чтением приятных, возвышающих душу книг, сделал все выводы, пошел до конца, бросил богатого папу и вступил в коммунистическую партию. Сейчас это партийный работник.
Через полчаса после нас пришел еще один гость, секретарь районного комитета партии. Мебели не хватило, и хозяин уселся на пол. Перед нами были два типичных представителя американского коммунизма – коммунист-рабочий и коммунист-интеллигент.
Секретарь был молодой, скуластый, похожий на московского комсомольца. Казалось, ему не хватало для полного сходства только кепки с длинным козырьком, нависшим, как карниз. Он был докером и сейчас проводил большую забастовку портовых грузчиков.
– Мы потеряли уже нескольких человек убитыми, но будем бороться до конца, – сказал он. – Вчера ночью полиция пыталась подвезти к пароходам штрейкбрехеров. Они стали теснить наших пикетчиков и пустили в ход револьверы. Место стычки полицейские осветили прожектором. Многим рабочим грозил арест. Тогда один из наших прорвался к прожектору и бросил в стекло булыжник. Прожектор потух, и рабочим в темноте удалось отстоять свои позиции и не пропустить штрейкбрехеров. Эту забастовку трудно проводить, потому что у нас нет единства профессионального движения – грузчики бастуют, а моряки работают. На нашем побережье идет забастовка, а на Атлантическом побережье работают. Конечно, хозяева этим пользуются и направляют грузы в атлантические порты. Это им обходится дороже, но для них дело сейчас не в деньгах. Им надо нас сломить. Мы много все-таки работаем над единством профессионального движения и надеемся на успех.
Он внезапно задумался и промолвил:
– Если бы нам достать хоть какой-нибудь автомобиль, хоть самый старый. У меня огромный район. Когда мне нужно поехать куда-нибудь по партийным делам, я выхожу на дорогу и поднимаю большой палец. Большой палец – это все средства, отпущенные мне на передвижение.
Он заговорил о тридцати долларах, которые нужны, чтобы начать борьбу против средневековой эксплуатации мексиканцев и филиппинцев на луковичных плантациях. Но их не было, этих тридцати долларов. Их еще только надо было доставать.
Некоторые партийные работники живут на два доллара в неделю. Смешная цифра для страны миллионеров. Но что ж, со своими жалкими крохами они мужественно встали на борьбу с Морганами. И делают успехи. Морганы со своими миллиардами, со своей могучей прессой боятся их и ненавидят.
Миссис Адамс с женой нашего хозяина давно ушли куда-то и сейчас только вернулись с хлебом и колбасой. Покамест мы доканчивали разговор, они делали бутерброды на шатающемся столике. Зрелище, о котором у нас знают уже только по музейным рисункам, изображающим быт русских революционеров накануне тысяча девятьсот пятого года.
– …Да, мистер Илф и мистер Петров, я вижу, вы вспомнили этих хороших людей, – продолжал Адамс. – Американцы умеют увлекаться идеями. А так как они вообще деловые люди и умеют работать, то и в революционном движении они занимаются делом, а не болтовней. Вы видели этого секретаря. Очень деловой молодой человек. Я вам советую, сэры, остановиться в Кармеле, вы увидите там людей еще более интересных. В Кармеле живет Линкольн Стеффенс. Сэры, это один из лучших людей Америки.
Дорога то подходила к океану, то уходила от него снова. Иногда мы проезжали длинными аллеями высоких пальм, иногда поднимались на пригорки среди зеленых садов и курортных домиков. В маленьком тихом городке Кармел мы позавтракали в ресторанчике, на стенах которого были развешаны фотографии знаменитых киноартистов с их автографами. Тут уже пахло Голливудом, хотя до него было еще миль двести.
Заросшие зеленью улички Кармела спускаются к самому берегу океана. Тут, так же как и в Санта-Фе и Таосе, живет много художников и писателей.
Альберт Рис Вильямс, американский писатель и друг Джона Рида, совершивший вместе с ним путешествие в Россию во время революции, большой седой человек с молодым лицом и добродушно сощуренными глазами, встретил нас во дворе маленького ветхого дома, который он снимал помесячно. Его домик походил на все американские домики только тем, что там был камин. Все остальное было уже не похоже. Стояла неожиданная тахта, накрытая ковром, было много книг, на столе лежали брошюры и газеты. Сразу бросалось в глаза – в этом доме читают. В своей рабочей комнате Вильямс открыл большую камышовую корзину и чемодан. Они были доверху наполнены рукописями и газетными вырезками.
– Вот, – сказал Вильямс, – материалы к книге о Советском Союзе, которую я заканчиваю. У меня есть еще несколько корзин и чемоданов с материалами. Я хочу, чтобы моя книга была совершенно исчерпывающей и дала американскому читателю полное и точное представление об устройстве жизни в Советском Союзе.
Вильямс несколько раз был у нас и в один из своих приездов прожил целый год в деревне.
Вместе с Вильямсом и его женой, сценаристкой Люситой Сквайр, мы отправились к Линкольну Стеффенсу. На Люсите Сквайр было холщовое мордовское платье с вышивкой.
– Это я ношу в память о России, – сказала она.
Мы шли берегом океана, не уставая им восхищаться.
– Черное море лучше, – заметила Люсита Сквайр. Мы похвалили Кармел, его домики, деревья, тишину.
– Москва мне больше нравится, – сухо заметила Люсита Сквайр.
– Вы ее не слушайте, – сказал Вильямс, – она одержимая. Она постоянно думает о Москве. Ей ничего не нравится на свете, только Москва. После того как она побывала там, она возненавидела все американское. Вы же слышали! Она сказала, что Черное море красивее, чем Тихий океан. Она даже способна сказать, что Черное море больше, чем Тихий океан: только потому, что Черное море – советское.
– Да, – сказала Люсита упрямо, – я это говорю и буду говорить. Хочу в Москву! Мы не должны сидеть здесь ни минуты!
Разговаривая так, мы подошли к дому Линкольна Стеффенса, почти не видному с улички за густой зеленью.
Стеффенс – знаменитый американский писатель. Его автобиография в двух томах стала в Америке классическим произведением.
Сердечная болезнь не позволяла ему встать с постели. Мы вошли в комнату, где стояла головами к окну железная белая кровать. В ней, опираясь на подушки, полулежал старик в золотых очках. Немножко ниже его груди, на одеяле, стояла низенькая скамеечка, на которой помещалась портативная пишущая машинка. Стеффенс заканчивал статью.
Болезнь Стеффенса была неизлечима. Но, как и все обреченные люди, даже понимающие свое положение, он мечтал о будущем, говорил о нем, строил планы. Собственно, для себя у него был только один план: уехать в Москву, чтобы увидеть перед смертью страну социализма и умереть там.