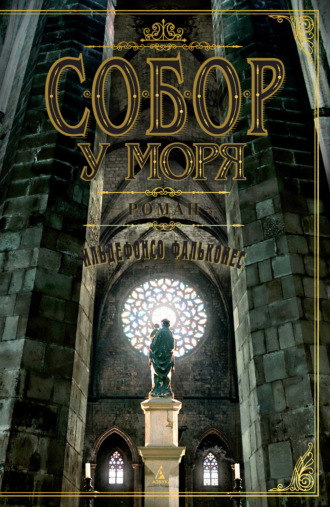
Ильдефонсо Фальконес
Собор у моря
5
– Твой сын останется в большом доме. Донья Гиамона позаботится о нем. Когда мальчик достигнет определенного возраста, он пойдет в подмастерья.
На этой фразе Бернат перестал слушать Жауме.
Первый помощник явился на рассвете. Рабы и подмастерья повскакивали со своих тюфяков, как будто вошел сам Сатана, и выбежали из помещения, толкая друг друга.
Бернат пытался успокоить себя тем, что за Арнау будут присматривать и мальчик приобретет профессию, а затем станет свободным человеком.
– Ты понял? – спросил его Жауме.
Бернат молчал, и Жауме выругался:
– Чертов селянин!
Бернат чуть было не ударил его в ответ, но улыбка, появившаяся на лице первого помощника, сдержала его.
– Соглашайся, – продолжил Жауме. – Сделай это, и твоей сестре не придется за тебя заступаться. Я повторю тебе главное, селянин: ты будешь работать с утра до вечера в обмен на кров, еду и одежду. Гиамона будет заботиться о твоем сыне. Тебе запрещено заходить в дом; ни под каким предлогом ты не можешь этого делать. Тебе также запрещено выходить из мастерской, пока не пройдет год и день, которые нужны, чтобы ты мог получить свободу. И каждый раз, когда какой-нибудь незнакомец войдет в мастерскую, ты должен прятаться. И еще: ни в коем случае не рассказывай, что с тобой произошло, даже здесь. Хотя эта родинка… – Жауме покачал головой. – Так решили хозяин с доньей Гиамоной. Доволен?
– Когда я смогу видеть моего сына? – спросил Бернат.
– Это меня не касается.
Бернат закрыл глаза. Впервые увидев Барселону, он пообещал Арнау свободу. У его сына не будет никакого сеньора!
– Что я должен делать? – спросил он наконец.
– Загружать дрова. Загружать стволы за стволами, сотни стволов, тысячи стволов, которые необходимы для работы печей. И следить, чтобы они не гасли. Носить глину и убирать. Убирать грязь, песок и пепел из печей.
Медленно потянулись дни.
Бернат трудился в поте лица. Выносил пепел и песок за дом. Когда возвращался, покрытый пылью и пеплом, мастерская снова была грязной, и он начинал все сначала. Под пристальным взглядом Жауме вместе с другими рабами он выносил готовые изделия на солнце. Первый помощник контролировал работников каждую минуту, прохаживаясь по мастерской, покрикивая, раздавая оплеухи молодым подмастерьям и грубо обращаясь с рабами, для которых не жалел и кнута, когда что-то было ему не по душе.
Один раз, когда рабы ставили на солнце большую посудину, та вырвалась у них из рук и покатилась. Жауме в ту же секунду достал виноватых кнутом. Посудина даже не треснула, но первый помощник завопил как бесноватый, раздавая удары рабам, которые вместе с Бернатом несли ее.
Дошла очередь и до Берната.
– Попробуй только, и я убью тебя, – пригрозил Бернат, спокойно глядя в лицо Жауме.
Первый помощник заколебался и, покраснев, стал щелкать кнутом в сторону остальных, уже успевших отойти от него на приличное расстояние. Бернат облегченно вздохнул.
Этот случай ничего не изменил – Бернат продолжал вкалывать, не щадя сил, и его не надо было подгонять.
Ел он то же, что давали всем.
Поначалу ему хотелось сказать толстой женщине, готовившей им, что он своих собак кормил лучше, но, видя, как подмастерья и рабы с жадностью набрасываются на кормежку, предпочел промолчать.
Спал Бернат в одном помещении с остальными работниками, на соломенном тюфяке, под которым хранил свои скудные пожитки и деньги, которые ему удалось захватить с собой. Благодаря столкновению с Жауме он завоевал уважение рабов и подмастерьев, а также прочих помощников хозяина, приглядывающих за ними, поэтому спал спокойно, несмотря на блох, чужой запах пота и храп, стоящий вокруг.
И все это он терпел ради тех двух раз в неделю, когда чернокожая рабыня, свободная от обязанностей по дому, приносила ему Арнау, который обычно спал. Бернат брал сына на руки и вдыхал аромат, исходивший от него, от чистой одежды, от детских мазей. Потом, чтобы не разбудить ребенка, он приподнимал одежду, чтобы посмотреть на его ножки, ручки и кругленький животик.
Арнау рос и набирал вес. Бернат убаюкивал его и, повернувшись к Хабибе, молодой мавританке, умолял ее взглядом дать ему побыть с сыном еще немного. Иногда он пытался погладить малыша, но его потрескавшиеся ладони царапали кожу ребенка, делая ему больно, и Хабиба без промедления забирала у него малыша. Несколько дней спустя Бернат пришел к молчаливому соглашению с мавританкой: она старалась молчать, а он гладил румяные щечки сына тыльной стороной ладони, чувствуя при этом, как от прикосновения к нежной коже малыша у него по телу пробегали мурашки…
Когда же девушка наконец начинала показывать знаками, что пора вернуть ей ребенка, Бернат целовал сына в лоб и неохотно передавал его няньке.
Через несколько месяцев Жауме сообразил, что Бернат мог бы выполнять более полезную работу для мастерской.
Они оба научились уважать друг друга.
– Рабы не думают, когда работают, – как-то при случае сказал первый помощник Грау Пучу. – Они трудятся только из страха перед кнутом, не прилагая стараний. А вот ваш шурин…
– Не говори, что он мой шурин! – перебил его Грау, отлично понимая, что Жауме получил удовольствие, позволив себе в разговоре с хозяином эту маленькую вольность.
– Этот селянин… – поправил себя помощник, делая вид, что сконфузился. – Он не такой, как все. Он проявляет интерес даже к маловажным поручениям. Он чистит печи так, как никогда прежде их не чистили…
– И что ты предлагаешь? – резко спросил Грау, не отрывая взгляда от бумаг, которые просматривал.
– Может быть, его следует занять другими работами, где требуется больше ответственности? – Жауме пожал плечами. – Учитывая, что он обходится так дешево…
Услышав эти слова, Грау поднял голову и посмотрел на первого помощника.
– Не заблуждайся, – сказал он ему. – Бернат не стоил нам денег как раб, не заключал с нами договор как подмастерье, и ему не придется платить как помощнику мастера, но это самый дорогой работник, который у меня есть.
– Я имел в виду…
– Знаю я, что ты имел в виду. – Грау снова занялся своими бумагами. – Делай то, что считаешь нужным, но я тебя предупреждаю: этот крестьянин никогда не должен забывать своего места в мастерской. Иначе я выкину тебя отсюда и ты никогда не станешь мастером. Ты меня понял?
С этого дня Бернату поручили помогать помощникам мастера; он стал также приглядывать за молодыми подмастерьями, не умевшими обращаться с большими и тяжелыми пресс-формами из огнеупорной глины, которые должны были выдерживать температуру, необходимую для обжига фаянса или керамики. Из них делались огромные пузатые кувшины с узким, очень коротким горлышком и плоским основанием. Их вместимость достигала двухсот восьмидесяти литров[3]. Такие кувшины предназначались для перевозки зерна или вина. До этого времени Жауме приходилось привлекать для подобных работ по меньшей мере двух своих помощников. Благодаря Бернату стало достаточно одного, чтобы довести процесс до конца: сделать пресс-форму, обжечь ее, наложить на тинаху слой оксида олова и слой оксида свинца в качестве флюса – все это были компоненты глазури. Затем нужно было поставить тинаху во вторую печь, с меньшей температурой, чтобы олово и свинец не расплавились и не смешались, тем самым обеспечив изделию непроницаемый стекловидный слой белого цвета.
Жауме остался доволен результатом своего решения: с помощью Берната он значительно увеличил производительность мастерской, а Бернат продолжал с прежним усердием относиться к своей работе.
«Он лучше, чем кто-либо из помощников!» – вынужден был признать Жауме.
Он не раз пытался прочитать мысли крестьянина, но лицо Берната оставалось непроницаемым. В его глазах не было ни ненависти, ни злобы. Жауме спрашивал себя: что с ним случилось, почему он оказался здесь? Этот молодой мужчина был не таким, как остальные родственники хозяина, которые появлялись в мастерской с одной целью: всем им нужны были только деньги.
А вот Бернат…
С какой нежностью он смотрел на своего сына, когда его приносила мавританка!
Ему хотелось свободы, и ради нее он работал изо всех сил, как никто другой.
Взаимопонимание между ними, помимо увеличения производительности труда, дало и другие плоды.
Однажды, когда Жауме подошел, чтобы поставить печать хозяина на горлышко новой тинахи, Бернат прищурился и взглядом указал на основание изделия.
Но…
«Ты никогда не станешь мастером!» – пригрозил однажды своему помощнику Грау, когда тот при нем выразил свое дружелюбное отношение к Бернату.
Эти слова частенько вертелись в голове Жауме.
Поэтому он притворился, что внезапно закашлялся, и отступил от тинахи, не поставив на нее печать. Внимательно посмотрев на основание кувшина, он заметил маленькую трещину, свидетельствующую о том, что изделие лопнуло в печи. Жауме пришел в ярость от недосмотра помощника… и затаил еще больше злобы на Берната.
Пролетели год и день, необходимые для того, чтобы Бернат и его сын стали свободными.
Грау Пучу удалось заполучить желанное место в городском Совете Ста. Однако Жауме не замечал никакой перемены в поведении крестьянина. Любой другой на его месте потребовал бы письмо с правом на гражданство и бросился бы по улицам Барселоны искать развлечений и женщин, но Бернат этого не сделал.
Почему?
В Бернате постоянно жили воспоминания о мальчике из кузницы. Он не чувствовал себя виноватым: этот несчастный встал на его пути к спасению сына, и Бернат вынужден был его ударить.
Но если подмастерье умер…
Бернат мог получить свободу от своего сеньора по прошествии необходимого срока, однако ему вряд ли удалось бы избавиться от обвинения в убийстве. Гиамона посоветовала брату не говорить об этом случае никому, и он послушался ее. Бернат не мог рисковать, поскольку понимал, что Льоренс де Бельера, вероятно, отдал приказ схватить его не только как беглеца, но и как убийцу.
Что стало бы с Арнау, если бы его отца задержали?
За убийство наказывали смертью.
Его сын продолжал расти здоровым и крепким. Мальчик еще не начал говорить, но уже ползал и выдавал трели, от которых у Берната звенело в ушах.
Хотя Жауме по-прежнему держался с Бернатом надменно, его положение в мастерской переменилось – его уважали все больше (об этом не догадывался только Грау, поглощенный своей торговлей и разнообразными старыми и новыми обязанностями). И нянька-мавританка, с молчаливого согласия Гиамоны, которая тоже была слишком занята детьми и домашними делами, стала приносить ребенка все чаще, улучая момент, когда тот не спал.
Сейчас Берната беспокоило только одно: его не должны были видеть в Барселоне, поскольку это могло навредить будущему сына.
Часть вторая
Рабы знати
6
Рождество 1329 года
Барселона
Арнау исполнилось восемь лет. Он был спокойным и умным ребенком. Длинные каштановые волосы, волной спадавшие ему на плечи, обрамляли лицо, на котором выделялись большие светлые глаза цвета меда.
Дом Грау Пуча был украшен к Рождеству. Мальчик, который в десять лет смог покинуть отцовские земли благодаря щедрому соседу, стал известным человеком в Барселоне и сейчас торжествовал, вместе с женой ожидая прихода гостей.
– Они явятся, чтобы оказать мне честь, – с гордостью говорил Грау своей супруге. – Ты когда-нибудь видела, чтобы знать и купцы ходили в гости к ремесленнику?
Гиамона молча слушала его.
– Сам король покровительствует мне! Ты понимаешь это? Сам король! Король Альфонс!
В этот день в мастерской не работали, и Бернат с Арнау сидели на полу, нахохлившись от холода и наблюдая из-за горы горшков, как рабы, помощники и подмастерья то и дело сновали в дом и обратно. За эти восемь лет Бернат так ни разу и не вошел в дом Пуча, но его это не волновало. Он задумчиво поглаживал волосы Арнау и радовался, что рядом с ним был сын, крепко обнимавший его. Чего еще он мог желать?
Ребенок жил рядом с Гиамоной, ел с ней за одним столом и даже брал уроки у наставника детей Грау: вместе со своими двоюродными братьями он учился читать, писать, считать.
Однако Арнау знал, что Бернат – его отец, поскольку Гиамона никогда не позволяла ему забывать об этом. Что касается Грау, то он относился к своему племяннику с подчеркнутым равнодушием.
В доме богатых родственников Арнау вел себя хорошо, однако Бернат все равно время от времени напоминал ему о том, что ему следует быть вежливым и благодарным семье Пуч.
Когда мальчик, весело смеясь, входил в мастерскую, лицо Берната светлело от радости. Рабы и помощники, включая Жауме, тоже не могли сдержать улыбки, увидев, как тот несется по двору и садится в ожидании, пока Бернат не закончит свою работу, а затем подбегает к отцу и крепко обнимает его. Потом он устраивался рядышком с Бернатом, восхищенно смотрел на отца и улыбался каждому, кто подходил к ним…
Однажды вечером, когда мастерская уже закрывалась, Хабиба позволила ему проведать отца, и Арнау несколько часов провел с Бернатом, болтая и смеясь.
Их никто не беспокоил.
Так все удачно сложилось для них потому, что Жауме продолжал исполнять роль, ни на минуту не забывая о висящей над ним угрозе хозяина. Грау не интересовался доходами, поступавшими от мастерской, и еще меньше – чем-либо другим, связанным с ней. И все же он не мог обходиться без нее, поскольку благодаря гончарству получил титул консула гильдии гончаров, старшины Барселоны и члена Совета Ста. Достигнув того, что было лишь формальным титулом, Грау полностью ушел в политику и финансы более высокого уровня – как и пристало старшине Графского города.
С начала своего царствования в 1291 году Хайме II попытался подчинить себе каталонскую феодальную олигархию и для этого стал искать поддержки у свободных городов и граждан, начав с Барселоны. Сицилия принадлежала короне еще со времен Педро Великого, поэтому, когда Папа предоставил Хайме II право захвата Сардинии, Барселона и ее граждане финансировали это предприятие.
Присоединение двух средиземноморских островов к короне благоприятствовало интересам всех сторон: оно гарантировало поставку зерна в графские земли и господство Каталонии в Западном Средиземноморье, а также контроль над торговыми морскими путями. В свою очередь, корона получила право разрабатывать серебряные и соляные копи острова.
Грау Пуч не застал этих событий. Его звезда взошла со смертью Хайме II и коронацией Альфонса IV. В 1329 году корсиканцы подняли мятеж в городе Сассари. В то же время генуэзцы, боясь коммерческой мощи Каталонии, объявили ей войну и атаковали корабли, которые ходили под ее флагом. Ни король, ни коммерсанты не сомневались ни минуты: кампания по подавлению мятежа на Сардинии и война против Генуи должны финансироваться гражданами Барселоны. Так оно и получилось, причем главным образом благодаря порыву одного из старшин Барселоны: Грау Пуч, сделавший щедрые пожертвования на военные расходы, убедил своими пламенными речами даже самых равнодушных и призвал их оказывать помощь королю. И вот – сам король публично поблагодарил его за патриотизм.
Грау раз за разом подходил к окнам, чтобы посмотреть, не идут ли гости, а Бернат попрощался с сыном, поцеловав его в щеку.
– Сейчас очень холодно, Арнау. Тебе лучше вернуться в дом.
Когда мальчик жестом выразил нежелание, отец добавил:
– Сегодня у вас будет хороший ужин, не так ли?
– Курица, шербет и пирожные, – ответил ребенок.
Бернат легонько шлепнул его и улыбнулся:
– Беги домой. Поговорим еще.
Арнау прибежал как раз к началу ужина; он и двое младших детей Грау – Гиамон, его ровесник, и Маргарида, на полтора года постарше их, – ужинали в кухне. А двое самых старших, Жозеф и Женис, должны были отужинать наверху с родителями.
Прибытие гостей сделало Грау еще более нервным.
– Я сам буду руководить всем, – заявил он Гиамоне, когда начались приготовления к праздничному ужину, – а ты займешься женщинами.
– Но как ты себе это представляешь?.. – попыталась протестовать Гиамона.
Однако Грау, не слушая жену, уже отдавал распоряжения Эстранье, толстой и очень наглой кухарке-мулатке, которая, склонив голову перед хозяином, исподтишка поглядывала на хозяйку, пряча улыбку.
«Как бы он хотел, чтобы я отреагировала? – думала Гиамона. – Он разговаривает не со своим секретарем, и не в гильдии, и не в Совете Ста. Неужели он считает, что я не способна позаботиться о гостях? Или он решил, что я не соответствую их уровню?»
За спиной своего мужа Гиамона попыталась навести порядок среди слуг и приготовить все так, чтобы празднование Рождества удалось, но Грау разошелся не на шутку, вмешиваясь во все, включая заботу о роскошных накидках гостей. Гиамона вынуждена была отойти на второй план, который уготовил ей муж, и ограничиться тем, чтобы улыбаться женщинам, которые смотрели на нее свысока.
Грау напоминал командующего войском на поле боя: он разговаривал то с одними, то с другими и одновременно указывал слугам, что они должны были делать, кому и что подавать. Однако чем больше он жестикулировал, тем более напряженной и неловкой становилась прислуга. В конце концов все рабы – кроме Эстраньи, которая была в кухне и готовила ужин, – стали следить за Грау, стараясь не пропустить его поспешных приказов.
Оставшись без присмотра, так как Эстранья и ее помощницы, отвернувшись от них, занимались приготовлением блюд, Маргарида, Гиамон и Арнау смешали курицу с шербетом и пирожными и, не переставая шутить, обменивались кусками. После этого Маргарида взяла кувшин с вином и, не разбавив вино водой, сделала большой глоток. Кровь мгновенно прилила к лицу девочки, ее щеки раскраснелись, а глаза стали блестеть еще ярче. Потом она потребовала, чтобы ее родной и двоюродный братья сделали то же самое.
Арнау и Гиамон выпили, стараясь вести себя так же, как и Маргарида, но закашлялись и с полными слез глазами бросились искать воду. Быстро охмелев, все трое начали смеяться без причины – для этого им было достаточно посмотреть друг на друга, на кувшин с вином или на толстый зад Эстраньи.
– Прочь отсюда! – крикнула кухарка, услышав насмешки детей.
Дети, весело смеясь, бегом бросились из кухни.
– Тсс! – зашикал на них один из рабов, стоявших у лестницы. – Хозяин не разрешает детям здесь находиться.
– Но… – начала было Маргарида.
– Никаких «но»! – повторил раб.
В этот момент спустилась Хабиба, чтобы взять еще вина. Минуту назад хозяин посмотрел на нее горящими от гнева глазами, потому что один из гостей захотел налить себе вина, а вытекло только несколько жалких капель.
– Смотри за детьми, – напомнила Хабиба рабу, проходя мимо него. – Вина! – крикнула она Эстранье, не успев еще зайти в кухню.
Грау, боясь, что мавританка принесет обычное вино вместо того, которое следует подать, поспешил за ней.
Дети перестали смеяться и, оставаясь у лестницы, с любопытством смотрели на беготню, в которую внезапно включился сам хозяин дома.
– Что вы здесь делаете? – спросил Грау, увидев их рядом со слугой. – А ты? Что ты здесь стоишь? Иди и скажи Хабибе, что вино должно быть из старых кувшинов. Запомни: если перепутаешь, я с тебя шкуру спущу. Детей – в кровать!
Слуга бегом бросился в кухню.
Дети смотрели друг на друга, дурашливо гримасничая; их глаза искрились от выпитого вина.
Когда Грау снова побежал вверх по лестнице, они громко расхохотались.
«В кровать»? Маргарида бросила взгляд в сторону двери, открытой настежь, поджала губы и сделала большие глаза.
– А дети? – спросила Хабиба, когда снова увидела слугу.
– Вино из старых кувшинов… – забормотал он.
– А дети? – повторила она.
– Старые. Из старых… кувшинов.
– Где дети? – настаивала Хабиба.
– Хозяин сказал, чтобы ты шла укладывать их спать… – Он запнулся. – Из старых кувшинов, да? С нас спустят шкуру…
Барселона праздновала Рождество, город оставался пустынным, пока люди не пошли на полуночную мессу, чтобы принести жертвенного петуха.
Лунная дорожка, отражавшаяся в море, была похожа на улицу, которая тянулась до самого горизонта.
Дети сидели на берегу и все трое смотрели на серебристый след, сверкающий на поверхности воды.
– Сегодня никого не будет здесь, у моря, – тихо произнесла Маргарида.
– Никто не выходит в море на Рождество, – добавил Гиамон.
Оба повернулись к Арнау, который покачал головой.
– Никто не заметит, – настаивала Маргарида. – Мы пойдем и вернемся очень быстро. Тут всего несколько шагов.
– Трус, – презрительно заявил Гиамон.
Они побежали до Фраменорса, францисканского монастыря, который возвышался у крайней восточной части городской стены, почти у моря. Добравшись туда, дети уставились на прибрежную полосу, простиравшуюся до монастыря Святой Клары, расположенного у западной границы Барселоны.
– Смотрите! – воскликнул Гиамон. – Флот города!
– Я никогда не видела берег таким, – восхищенно добавила Маргарида.
От Фраменорса до монастыря Святой Клары берег был забит самыми разными кораблями. Ничто не портило этого великолепного вида. Примерно сто лет назад король Хайме I Завоеватель запретил строительство на берегу Барселоны – об этом Грау рассказывал своим детям, когда они вместе с их наставником сопровождали его в порт, чтобы посмотреть, как загружают и разгружают корабль, совладельцем которого он был. Берег должен был оставаться свободным, чтобы моряки могли причаливать к нему на своих судах. Но никто из детей не обратил тогда ни малейшего внимания на объяснение Грау. Что странного в том, что корабли вытащены на песок пляжа? Они здесь всегда были.
Грау переглянулся с наставником.
– В портах наших врагов или наших торговых конкурентов, – объяснил наставник, – корабли на берег не вытаскивают.
Все четверо детей Грау сразу же повернулись к учителю.
Враги! Вот это их заинтересовало…
– Конечно, – вмешался Грау, гордясь, что дети наконец-то уделили ему внимание. Глядя на улыбающегося наставника, он добавил: – Генуя, наш враг, имеет великолепный естественный порт, защищенный от моря, благодаря которому генуэзские корабли остаются на воде. Венеция, наша союзница, расположена в большой лагуне, и к ней тянется множество каналов; штормы не доходят туда, и корабли могут стоять спокойно. Порт Пизы соединен с морем по реке Арно, и даже Марсель обладает естественным портом, в котором суда защищены от бушующего моря.
– Еще фокейские греки использовали порт Марселя, – добавил наставник.
– У наших врагов порты лучше? – спросил Жозеф, старший сын. – Но мы их победим, мы хозяева Средиземноморья! – выкрикнул он, повторяя слова, которые столько раз слышал из уст отца.
Все остальные согласились. А как же иначе?!
Грау ожидал объяснения от наставника.
– Да, у Барселоны всегда были лучшие моряки. Но сейчас у нас нет порта, и все же… – начал тот.
– Как – нет порта? – выкрикнул Женис, перебивая его. – А это?
– Это не порт. Порт должен быть укрытым местом, защищенным от моря, а то, что ты видишь… – Наставник махнул рукой в сторону моря, которое омывало берег. – Запоминайте, – сказал он после паузы, – Барселона всегда была городом моряков. Давно, много лет тому назад, у нас был порт, как и у всех тех городов, которые упомянул ваш отец. Во времена римлян корабли укрывались за холмом Табер, который находится примерно там. – Он указал на внутреннюю часть города. – Но земля постепенно отбирала у моря его территорию, и порт прекратил существование. Потом у нас был порт Комталь, который тоже исчез, и, наконец, порт Хайме Первого, находившийся еще в одном естественном укрытии, у скалы Фальсийских гор. Знаете, где сейчас эта скала?
Дети посмотрели друг на друга, потом повернулись к Грау, который, лукаво улыбаясь, как будто ему не хотелось, чтобы наставник узнал об этом, ткнул пальцем в землю.
– Здесь? – хором спросили дети.
– Да, – ответил наставник, – именно на этом месте мы и стоим. Она также исчезла, и Барселона осталась без порта, к тому времени мы уже были моряками – самыми лучшими, и остаемся самыми лучшими… но без порта.
– Тогда, – спросила Маргарида, – какую роль играет порт?
– Наверное, это лучше объяснит твой отец, – ответил наставник, и Грау согласился.
– Очень, очень важную роль, Маргарида. Видишь этот корабль? – спросил Грау, показывая дочери на галеру, окруженную маленькими лодками. – Если бы у нас был порт, можно было бы разгрузить его на пристани, без всех этих лодочников, которые перевозят товар. Однако, если бы сейчас началась буря, суда оказались бы в большой опасности и им пришлось бы на время уйти из Барселоны.
– Почему? – продолжала расспрашивать девочка.
– Потому что они не смогли бы дрейфовать в шторм и рисковали разбиться о причал и затонуть. Поэтому законы, Ордонансы о морском побережье Барселоны, требуют, чтобы в случае шторма корабль уходил под укрытие портов Салоу или Таррагоны.
– У нас нет порта, – с грустью произнес Гиамон, словно жалуясь, что его лишили чего-то чрезвычайно важного.
– Нет, – подтвердил Грау, смеясь и обнимая сына, – но мы продолжаем оставаться лучшими моряками, Гиамон. Мы – хозяева Средиземноморья! И у нас есть берег. Сюда причаливают наши корабли; когда заканчивается период навигации, здесь их чинят и строят. Видишь верфи? Там, на берегу, напротив этих аркад?
– А мы можем подняться на какой-нибудь корабль? – спросил Гиамон.
– Нет, – серьезно ответил ему отец. – Корабли – это святое, сынок.
Арнау никогда не ходил на прогулку с Грау и его детьми.
И даже если дети гуляли с Гиамоной, он оставался дома под присмотром Хабибы, но потом двоюродные братья рассказывали ему все, что видели и слышали.
Очень часто речь шла о кораблях.
И вот он увидел корабли в эту рождественскую ночь. Все сразу! Здесь были маленькие лодки: баркасы, шлюпки и гондолы; средние по размерам суда: фелюги, кастильские лодки, плоскодонки, калаверы, трехмачтовики, галиоты и барканты, а также несколько просто огромных – четырехмачтовики, коки и галеры, которые, несмотря на свои внушительные размеры, обязаны были прекращать плавания с октября по апрель – по королевскому запрету.
– Эй! – снова позвал Гиамон.
На верфях, напротив Регомира, горели костры, вокруг которых прохаживались часовые. От Регомира до Фраменорса, сгрудившись у берега, молчаливо покачивались корабли, освещенные луной.
– За мной, моряки! – воскликнула Маргарида, подняв правую руку. Она представила себя капитаном, который ведет своих людей, не боясь ни штормов, ни корсаров, и побеждает генуэзцев и мавров, вновь покоряя Сардинию. В ее ушах звучали крики в честь короля Альфонса, когда матросы, перепрыгивая с борта на борт, брали на абордаж вражеские корабли, а Маргарида выходила из битв победительницей!
– Кто здесь?
Трое ребят, испугавшись, метнулись к фелюге.
– Кто здесь? – снова услышали они.
Маргарида подняла голову над бортом. Три факела двигались между кораблями.
– Пойдемте отсюда, – прошептал Гиамон, дергая сестру за подол платья.
– Нельзя, – ответила Маргарида, – они перекрыли нам дорогу…
– А в сторону верфей? – спросил Арнау.
Маргарида посмотрела в направлении Регомира. Там появились еще два факела.
– Туда тоже нельзя, – пробормотала она.
«Корабли – это святое!» – говорил им Грау, и они хорошо запомнили эти слова.
Гиамон начал хныкать. Маргарида заставила его замолчать.
– В море! – приказала капитанша, когда туча закрыла луну.
Они перепрыгнули через борт и бросились в воду.
Маргарида и Арнау увидели, что Гиамон скрылся под водой, а затем вынырнул, стараясь не шуметь; все трое затаили дыхание, наблюдая за факелами, двигавшимися между судами. Вскоре охрана приблизилась к кораблям, стоявшим у берега. Маргарида неотрывно смотрела на луну, молча молясь, чтобы она оставалась закрытой тучей.
Проверка, казалось, длилась вечность, но никто из охранников не догадался посмотреть в море. А если бы кто-то и обнаружил их, ничего страшного не произошло бы. В конце концов, город праздновал Рождество, да и к тому же это были всего лишь трое испуганных ребятишек, сильно промокших и озябших.
Было очень холодно…
На обратном пути домой они так продрогли, что Гиамон даже не мог идти; у него стучали зубы, дрожали колени, мышцы сводило судорогой. Маргарида и Арнау схватили его под мышки и побежали к дому.
Когда они вернулись, гости уже ушли, а Грау, обнаружив, что дети сбежали, вместе с рабами собирался идти на поиски.
– Это Арнау, – заявила Маргарида, когда чернокожая рабыня купала Гиамона в теплой воде. – Он уговорил нас пойти на берег. Я не хотела…
Девочка подкрепила свою ложь слезами. Ее слова прозвучали настолько убедительно, что отец ей поверил.
Ни теплая ванна, ни одеяла, ни горячее питье не смогли помочь Гиамону. Лихорадка усиливалась. Грау послал за доктором, но и его старания не принесли больному облегчения: малыша продолжало лихорадить.
Гиамон начал кашлять, а его дыхание превратилось в жалобный свист.
– Я больше ничего не могу сделать, – признался, отчаявшись, Себастьян Фонт, врач, который навещал их в течение трех дней.
Гиамона подняла руки к лицу, бледному и осунувшемуся, и разрыдалась.
– Нет! – закричал Грау. – Должно быть какое-то средство.
– Могло бы быть, но… – Врач хорошо знал Грау и его предубеждения, однако понимал, что положение требует отчаянных мер. – Вам следует позвать Хафуда́ Бонсеньора.
Грау хранил молчание.
– Позови его, – потребовала Гиамона, всхлипывая.
«Еврея!» – подумал Грау.
«Кто обращается к еврею, обращается к дьяволу», – учили его в юности. Будучи еще ребенком, Грау с другими подмастерьями бегал разбивать кувшины еврейских женщин, когда те приходили за водой к общественным источникам. И продолжал делать это до тех пор, пока король не внял просьбам еврейской общины Барселоны и не запретил эти притеснения. Грау ненавидел евреев. Всю свою жизнь он преследовал и презирал тех, кто носил на груди знак в виде кружка. Они были еретиками, они убили Иисуса Христа…
Неужели кто-то из них войдет в его дом?!
– Позови его! – не выдержав, закричала Гиамона.
Этот вопль, казалось, разнесся по всему кварталу.
Бернат и все прочие, услышав его, вжались в свои тюфяки.
В течение трех дней он не видел ни Арнау, ни Хабибы, но Жауме держал его в курсе всего, что произошло в доме Пучей.
– С твоим сыном все в порядке, – сказал он ему, когда их никто не видел.
Хафуда Бонсеньор прибыл, как только его позвали. Одет он был в простой черный плащ с капюшоном и носил на груди кружок. Грау наблюдал за ним из столовой. Согбенный, с длинной седой бородой, тот внимательно слушал объяснения Гиамоны. «Вылечи его, еврей!» – читалось в глазах Грау, когда их взгляды встретились, и Хафуда Бонсеньор молча кивнул ему.
Это был ученый, который посвятил свою жизнь изучению философии и Священного Писания. По поручению короля Хайме II он написал книгу «Llibre de paraules de savis e filosofs»[4], но еще он был врачом, самым главным врачом в еврейской общине. Увидев Гиамона, Хафуда Бонсеньор лишь покачал головой.




