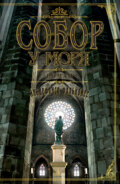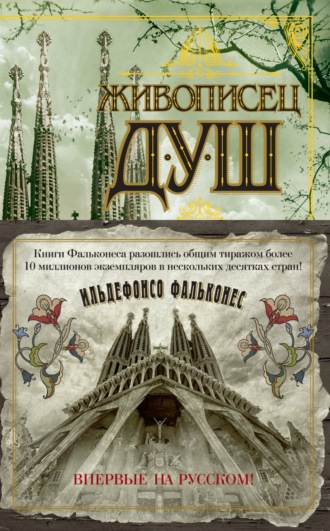
Ильдефонсо Фальконес
Живописец душ
Потом многие возвращались, толпились у решетки. Далмау смотрел на них, и у него все сжималось внутри. Он узнавал тех, которые крали. Возвращались и эти! И тот, кто набросился на него, и тот, кто уснул на полу. И буйные возвращались, будто не помнили, какой скандал учинили накануне, неделю или месяц назад. И все их друзья в придачу. Целая армия выброшенных на улицу детей, ищущих, чего бы поесть, где бы заработать несколько сентимо или найти уголок у печей, чтобы поспать в тепле.
Несколько месяцев по вечерам, закончив работу над изразцами и керамикой, Далмау похищал души детей, отторгнутых от человечества, и одушевлял листы бумаги, с которых кричали боль, тоска, отчаяние… нищета.
После того как были готовы первые два портрета, дон Мануэль ежедневно приходил в мастерскую Далмау и следил за тем, как возникают эти рисунки в черном цвете с несколькими, очень немногими, штрихами пастелью. Композиции эти, несмотря на некоторую двусмысленность, неизменно погружали зрителя в бездонный омут печали, где художник обретался вместе со своими моделями.
– Трудно вынырнуть из такой глубины, – признался однажды учитель, хватая воздух ртом, стараясь выровнять дыхание, как будто действительно погружался в бездну.
«Волшебство». «Фантастика». «Подлинное искусство». От портрета к портрету множились похвалы из уст дона Мануэля. «Мы устроим выставку, твою первую публичную выставку, – заявил он однажды как о чем-то решенном, включая и себя в проект, – выставку в Обществе художников Святого Луки». И попросил пару портретов, чтобы показать их там и подготовить почву.
Общество художников Святого Луки, членов которого прозвали «Льюками», в свое время откололось от Общества художников Барселоны. «Льюков» не устраивал богемный дух, который привезли из Парижа такие именитые художники, как Рамон Касас и Сантьяго Рузиньол. Гедонистическое, беспечное отношение к жизни сильно отличалось от чисто каталонского, консервативного и католического духа, который определял мировоззрение «Льюков».
Далмау восхищался Касасом и Рузиньолом, крупнейшими представителями авангарда, а значит, каталонского модерна в живописи, но и не отрицал заслуг художников, а главное, архитекторов, принадлежавших к кружку «Льюков», устав которого запрещал его членам писать обнаженную женскую натуру, – Бассегоды, Саньера, Пуч-и-Кадафалка и Гауди, зодчего, вселявшего движение в камни. Как можно не относить Гауди к модерну?
– Разница в том, – заметил преподобный Жазинт во время одной из бесед, которые они вели у пиаристов, – что «Льюки» – не радикалы, как эти утратившие веру поклонники беспорядка и распущенности, царящих в Париже.
– Стало быть, вы считаете, преподобный, – возразил Далмау даже с некоторым напором, – что Саграда Фамилия или дом Кальвета Гауди – не авангард, не радикальный переворот? Что здания Пуча или Доменека – не модерн, раз они не богема, а порядочные люди?
– Истинный модерн, – высказался под конец пиарист, – можно найти в благочестии, в религиозном чувстве, с которыми «Льюки» подходят к искусству, а не в духовных исканиях тех, что называют себя модернистами лишь потому, что отрекаются от своей истории, своих обычаев и признают хорошим все новое, неизведанное, часто не задумываясь о последствиях.
Далмау умолк, не желая оспаривать такое чуть ли не мистическое понятие об искусстве, высказанное человеком, которому он с каждым днем все больше симпатизировал.
Так или иначе, соратники учителя по кружку с энтузиазмом приняли предложение устроить выставку рисунков Далмау. «Такое видение, – определил один из них рисунки, представленные правлению общества, – погружает нас в Барселону нищих, тогда как другая Барселона погрязла в пошлых удовольствиях. Такая выставка может в ком-то пробудить совесть». «Надо бы тебе вернуться к преподобному Жазинту, – сообщив хорошую новость, дон Мануэль не упустил случая сделать попытку настоять на своем, – твоя карьера может во многом зависеть от этого. Я сказал в Обществе, что ты готовишься принять веру, без этого они вряд ли бы согласились устроить выставку безбожника».
Далмау что-то промычал в знак согласия; у него не было ни малейшего намерения снова идти слушать проповеди. В последние месяцы его жизнь ограничивалась работой на фабрике изразцов и рисунками, которые он делал по ночам в обществе Маравильяс и trinxerairе, которого выбирал для очередного сеанса.
Он мало виделся с матерью. Приходил на рассвете, когда та спала. Потом, за завтраком, они пытались завязать разговор, но вид пустого стула, где раньше сидела Монсеррат, повергал их в молчание. Далмау знал, что Эмма продолжает постоянно навещать Хосефу, возможно пытаясь заменить ей погибшую дочь. Не было дня, когда он не думал об Эмме, не прокручивал в голове удар кулаком, пьянку, презрение и унижение, угрозы и предупреждения кузена… Далмау пытался увидеться с ней и думал сделать это снова. Замечал, однако, что чувства его остывают, хотя иногда он вдруг ощущал болезненный укол при воспоминании о девушке. В такие минуты он расспрашивал мать, но та отвечала уклончиво. «Должно пройти время», – заявляла Хосефа, кладя конец разговору и нажимая на педаль швейной машинки. Далмау не мог понять, имела ли она в виду скорбную память о Монсеррат или его разрыв с Эммой.
Иногда по утрам он шел по Равалю мимо столовой «Ка Бертран». Множество извозчиков вокруг рынка Сан-Антони; экипажи у заводов, лошади, торговцы вразнос, мастеровые, безработные, нищие и trinxeraires – все движение, вся сумятица живого города вроде бы предоставляли ему укрытие, хотя и недостаточное, по мнению Далмау, который под конец всегда прятался в каком-нибудь парадном поодаль от столовой Бертрана. Время от времени видел Эмму, вечно чем-то занятую. Иногда вроде бы решался, делал несколько шагов по направлению к столовой, но неизменно отступал. Так и не мог к ней подойти, когда бывал уже готов это сделать, на память приходил удар кулаком и с презрением брошенное на прощание «Забудь обо мне!». «Болван!» – пробормотал он посреди улицы, не думая, что кто-то может услышать и обидеться. Огляделся. Никого: только двое мужчин шли своей дорогой, мотая головами. Как он раскаивался в своем поведении! Эмма, наверное, ничего не забыла. Мать никогда не упоминала, что девушка хоть в малейшей степени интересуется им. Может, по-прежнему берет на себя ответственность за смерть Монсеррат, и его винит тоже. Может, и правда еще рано. Может, мать права и нужно подождать…
Однажды, когда Далмау направлялся на фабрику, парочка trinxeraires, мальчик и девочка, вышли из укрытия и принялись бродить по кварталу.
– Которая? – спросила девочка.
– Та высокая, милашка, в цветастом платье и белом переднике, – ответил ее брат.
– Точно?
– Точно. Он, как завидит ее, скорей бежит прятаться в парадное. Ты разве не замечала? – уверенно говорил Дельфин. Маравильяс замечала, конечно, однако хотела это услышать от брата, удостовериться. – Я даже видел, как он весь дрожит. Только нос высунет, когда она во дворе, а как в дом зайдет, так и всю голову. Дело ясное! Пошли! – поторопил он сестру.
И они побежали вслед за Далмау, чтобы, как чуть ли не каждый день, столкнуться с ним, будто ненароком, где-то за кварталом Сан-Антони. «Вы меня преследуете?» – спервоначалу спрашивал он. «Ага», – отвечала Маравильяс.
И Далмау всегда покупал им поесть у одного из торговцев вразнос, которые разъезжали по городу, криками нахваливая товар и скрипя тележками.
Однажды, вместо того чтобы преследовать Далмау, Маравильяс подошла к заднему двору столовой.
– Дайте хлебушка, добрая тетя, – стала клянчить у Эммы, протягивая руку над невысокой стеной, служившей оградой.
– Хочешь хлеба, – ответила Эмма, не бросая работу, – приходи в полдень, после обеда: поможешь помыть посуду, и я тебя накормлю.
– Я голодная, – заявила нищенка с развязностью, не подобающей тем, кто просит милостыню.
Теперь Эмма на нее взглянула. Маравильяс выдержала взгляд и в свою очередь рассмотрела ее во всех деталях. Конечно милашка. Красавица. Чистая. Молодая, здоровая. Зависть захлестнула trinxerairе. Ее собственные крошечные груди не видны из-за выступающих ребер, зада нет вообще, а живот впалый… Ничего подобного чувственным, женственным изгибам, как у этой. Как давно она не видела своего лица в зеркале? Даже не знает, хорошенькая ли она. Дельфин говорит: нет, безобразная, как те тупорылые рыбы, которых иногда можно видеть в садках, но для улицы это не важно. В самом деле: здесь ценятся отвага, быстрота, решительность, хитрость… Если девочка красива, на нее обратят внимание, изнасилуют или пустят по рукам или и то и другое вместе.
– Потерпишь до полудня, – повторила Эмма, прервав размышления Маравильяс.
– Ну хоть кусочек, – снова попробовала она.
– В полдень.
– Пожалуйста.
– Ты меня слышишь? – потеряла терпение Эмма. – В полдень.
В полдень Далмау временами обедал в доме учителя. С тех пор как началась подготовка выставки портретов trinxeraires, он то и дело приглашал ученика. К галстуку уже не придирался. Далмау ел за общим столом, со всей семьей и преподобным Жазинтом, и теперь его приглашали часто; порой юноша даже оставался с преподобным на сиесту, в отдельной темной комнатке, в то время как дон Мануэль дремал в своей спальне. Иногда за стол садились и другие гости, родные или друзья семейства, но это бывало реже. Донья Селия не говорила с ним ни слова и не скрывала своей неприязни. Урсула, старшая дочь, попыталась снова заняться тем же наивным, скованным сексом, что и в первый раз: предложив научить Далмау пользоваться приборами, опять затащила его в кладовку. Даже не позволила заговорить: набросилась на него с поцелуями, схватила за руки, опять положила одну на грудь, вторую между ног, все так же поверх одежды. Потом нашарила пенис, и, пока держалась за возбужденный член Далмау, испытывая запретное наслаждение, тот быстро сунул в вырез руку и извлек одну из грудей на свет божий.
– Что ты творишь?! – заорала Урсула, резко отпрянув и спеша засунуть грудь обратно под платье. – Кем ты себя вообразил?
Тут Далмау сложил пальцы, чтобы ущипнуть ее между ног, и девушка отпрыгнула назад. Опрокинула швабру и таз, которые разлетелись с жутким грохотом.
– Моя сестра умерла, – напомнил Далмау, когда она, торопясь и задыхаясь, билась в дверь, чтобы выйти из каморки, – тебе нечем меня шантажировать.
– Ты меня недооцениваешь, горшечник сра… – Урсула вовремя придержала язык. – Я тебе это попомню, – пригрозила она перед тем, как хлопнуть дверью.
Во всяком случае, в том, что касалось выставки Далмау в Обществе художников Святого Луки, угроза не осуществилась: выставка открылась в здании Общества на улице Ботерс и имела большой успех. Преподобный Жазинт своим присутствием придал вес заверениям дона Мануэля насчет скорого обращения в веру этого нового художника, которого поздравляли, расспрашивали, осаждали явившиеся на выставку члены кружка, их родные и многочисленная публика, приглашенная на вернисаж. Открывал выставку дон Мануэль, которого сопровождали два члена Общества. Далмау не хотел говорить на публике и сам упросил учителя. «Я очень нервничаю, – признался он. – Голос дрожит и слова застревают в горле». – «Ты же не политик», – ответил дон Мануэль и освободил его от этой роли, зато заставил после своей речи обходить зал и знакомиться с людьми. Усы, некоторые с напомаженными кончиками, почти все густые, как у дона Мануэля, и сросшиеся с бакенбардами, и бороды всех видов: квадратные, в мадридском стиле, остроконечные; эспаньолки, иногда просто клочок волос под нижней губой… Эти господа представляли его своим женам и дочерям, хорошо одетым, надушенным; на матерях дорогие украшения. Далмау был совершенно сбит с толку. Он отвечал на вопросы и не успевал закончить фразу, как его уже уводили в другое место, и какая-то дама признавалась, что рисунки вызывают у нее огромное сочувствие к бедным trinxeraires, «божьим созданиям, таким же, как мы», твердила она чуть ли не в слезах. Вдруг появлялось какое-то важное лицо, и дон Мануэль отводил Далмау в сторонку, но вскоре вокруг него опять толпился народ.
Также собрались журналисты из специальных изданий и тоже рассыпались в похвалах. «Живописец душ» – озаглавил один из них статью, которая вышла на следующий день; это напомнило Далмау замечание дона Мануэля и навело на мысль о влиянии, какое учитель, возможно, оказал на газетчика, который брал интервью при его активном участии. «Идеализм, с которым молодой художник изображает нищету, – объявил другой критик перед покоренной аудиторией, – придает даже некоторое достоинство детям, предстающим на этих рисунках».
«Льюки» пребывали в эйфории. В их постоянных стычках с богемой Далмау одержал великую победу. Года два тому назад та же пресса раскритиковала выставленные в «Четырех котах»[12], барселонской пивной-кафе-ресторане, ставшей для богемы культовым местом, картины молодого художника Пабло Руиса Пикассо. «Неровность рисунка, неопытность, промахи, колебания…» – так тогда оценили его произведения. Для богемы Пикассо превратился в самого многообещающего из молодых живописцев, однако его следующую выставку, год спустя, совместно с Рамоном Касасом в выставочном зале Парес журналисты и эксперты в области искусства даже не удостоили комментария.
– А тебя определяют как живописца душ, – поздравлял Далмау дон Мануэль, раздуваясь от гордости.
Люди, окружавшие Далмау, разразились аплодисментами. Художник не знал, куда девать руки, куда направить взгляд; наконец устремил его в пол, потом быстро обвел глазами мужчин и женщин, кивая, бормоча слова благодарности, не зная, аплодировать ли ему тоже или нет. Решил, что надо. Хлопнул в ладоши, и тут люди расступились, давая пройти женщине, одетой с чрезвычайной простотой, в платье из цветастой ткани, даже без подкладки; если бы не поясок на талии, оно болталось бы, как туника.
Далмау не нужно было смотреть на лица, чтобы почувствовать отторжение, какое вызвала Хосефа у этих зазнавшихся буржуа. Некоторые уже отходили в сторону, когда Далмау повысил голос:
– Моя мать, – представил он, беря ее за руку и подводя к дону Мануэлю. – Мой учитель, мама.
Дон Мануэль изящно поклонился, и иные женщины, уже отошедшие, вернулись, снедаемые любопытством и каким-то пошлым интересом, – разглядеть поближе будущий предмет пересудов и насмешек на их вечеринках: мать художника.
Хосефа, не обращая внимания на похвалы ее сыну, в которых рассыпался дон Мануэль, беззастенчиво уставилась на этих дам.
– Покажи мне это, – попросила потом сына, обводя рукой стены, увешанные рисунками.
Они прошлись по выставочному залу, учитель рядом, взгляды всех присутствующих устремлены на них. Хосефа вытерпела объяснения дона Мануэля и Далмау, гордо держа сына под руку, чувствуя, что все на нее смотрят.
Далмау пожалел, что Эммы нет с ними: он бы сжимал ей руку, объяснял бы рисунки, кто есть кто, чего ему стоило этих детей нарисовать, что стащил этот, что выкрикивал вот тот… И она бы смеялась, и они бы разделили триумф. Может быть, теперь, после выставки, он рискнет снова встретиться с девушкой.
– Ты должен быть начеку, – шепнула Хосефа на ухо Далмау, прерывая ход его мыслей, – чтобы кто-нибудь из этих буржуев не смутил твою душу.
5
Эмма обходила зал, неся поднос, нагруженный грязной посудой, которую она собирала со столов. Шла медленно, осторожно, стараясь, чтобы стаканы и тарелки не стукались друг о друга. Но вдруг, когда она проходила мимо стола, за которым сидели четверо рабочих, один из них с силой шлепнул ее по заду. Девушка споткнулась и выпустила поднос. Стаканы, тарелки и плошки разлетелись по полу, многие разбились вдребезги. Эмме было не до катаклизма: она прижала руку к ягодице и, вся красная от стыда, повернулась к обедающим.
– Кто это был? – закричала она. – Как ты смеешь?
Мужчины, сидевшие за столом, хохотали во все горло. Бертран быстро подбежал к ним.
– Леон, – обратился он к одному завсегдатаю, рабочему с мебельной фабрики, нахалу и забияке, – мне здесь не нужны скандалы! У меня приличное заведение.
– Приличное? – возопил мастеровой, развернул большой лист бумаги и показал Бертрану.
Эмма увидела, как побледнел хозяин. А рабочий встал, прижал лист к груди, развернув его до колен, и стал поворачиваться в разные стороны, чтобы люди с других столиков тоже посмотрели. Свистки, аплодисменты, непристойности и грубые словечки, какими приветствовали картинку неотесанные работяги, пришедшие сюда пообедать за несколько сентимо, загудели у Эммы в ушах, когда она узнала на рисунке себя, нагую, в вызывающей, совершенно похабной позе. У нее подкосились ноги, закружилась голова. Все вокруг вращалось с бешеной скоростью, и она уже не слышала гвалта. Она начала падать, но мужчина, сидевший за столиком Леона, ее подхватил.
– Раздевайся! – крикнул кто-то.
– Юбки, задери ей юбки!
Мужчина, не давший Эмме упасть, одной рукой поддерживал ее за талию, а другой похотливо ощупывал грудь.
– Молодчина!
– Покажи нам сиськи! Настоящие! – подстегивал кто-то еще.
Бертран остолбенел. Его жена Эстер и одна из дочерей, привлеченные скандалом, вызволили Эмму из рук работяги.
– Уведи ее, – велела мать, обращаясь к дочери. – На кухню. Живее!
– Ну нет! – хором взвыли клиенты.
– Пусть оголится, как на картинке.
– Шлюха!
– Дай сюда, – подступила к Леону повариха.
– И не подумаю, – воспротивился тот, пряча рисунок за спину. – Мне это стоило моих кровных денежек.
– Где ты это взял? – наконец-то пришел в себя Бертран.
– Где купил, ты хочешь сказать. В борделе Хуаны! – громко расхохотался он. – Там и другие картинки продавались, но мне приглянулась эта.
И пока он снова вертелся, распаляя собравшихся, Эмма сникла окончательно, услышав слова Леона буквально на пороге кухни: были и другие картинки, и к тому же их продавали в борделе.
– Ну хватит! Довольно, – потребовал Бертран. – У меня…
– Приличное заведение? – прервал его Леон под новый взрыв хохота. – У тебя работает девка, которая выставляется голой в… Выставляется голой, как последняя мочалка! – выкрикнул он наконец.
– Должно быть какое-то объяснение, – вклинилась Эстер; прежде чем идти следом за Эммой, она велела другой дочери подобрать все с пола.
Объяснения не было. Во всяком случае, такого, которое удовлетворило бы Эстер: она и ее муж, скромные владельцы столовой, гордились тем, что достигли определенной ступени, заняли место, пусть невысокое, среди городской буржуазии, и очень дорожили этим. Каталонцы к тому же и, разумеется, католики. «Ты позволила нарисовать себя в таком виде? – изумилась женщина, когда Эмма, сидя на корточках, закрыв руками лицо, на все ее расспросы только кивала. – Но… но… что за отношения были у тебя с женихом, девочка? Вы… предавались разврату?» Обе дочери Бертрана, разинув рты, ловили каждое слово; отец тоже вслушивался, стоя в дверях кухни и одновременно присматривая за залом.
– Мне так жаль, так жаль, так жаль… – рыдала Эмма.
Одна из дочерей, желая утешить плачущую, склонилась, чтобы обнять ее за плечи. Мать яростно вцепилась в нее, заставила подняться и оттащила на несколько шагов.
– И нам жаль, Эмма, – изрекла она, – но тебе придется покинуть этот дом.
Бертран напрягся. Но взгляда, который бросила на него жена, было достаточно, чтобы он прикусил язык. Дочери удивленно переглянулись. Эмма отвела ладони от лица и взглянула на Эстер.
– Вы меня увольняете? – медленно, в изумлении спросила она.
– Разумеется, – жестко отвечала хозяйка. – Мы не можем здесь допустить такого неприличия. Рассчитай ее, Бертран, – добавила она, направляясь к мужу. – Вы займитесь готовкой. А ты собери свои вещи и приходи за деньгами. Молчи, – проговорила она сквозь зубы, когда они с мужем вместе выходили из кухни. Народ уже успокоился, слышался только обычный гул голосов, кое-где крики и взрывы хохота. – Знаю, нелегко ее прогонять, – продолжала женщина, – но дело не только в этом рисунке… или в тех, какие могут еще появиться. Ты не замечаешь, что Эмма заменяет твоих дочерей на кухне? Им вольготнее вдали от плиты, они болтают с людьми, дурачатся, флиртуют. Подавальщиц мы всегда найдем, таких или сяких, а вот хороших кухарок мало, и надо воспользоваться случаем. Мы должны научить дочек всему, что умеем: кто меня заменит, если со мной что-нибудь случится? Кто продолжит это дело, когда мы состаримся?
– Но ее дядя… Мясо со скотобойни… – засомневался Бертран.
– Себастьян все прекрасно поймет. Думаешь, ему понравится, если народ побежит сюда с картинками, честя его племянницу шлюхой и хватая ее за задницу? Того гляди, он сам ее из дома выгонит.
– Он анархист, почти такой же, каким был его брат, а ты знаешь, что они думают относительно секса и всяческих свобод.
– Да-да-да, милый мой, – язвительно отвечала Эстер. – Пока это их самих не коснется, их собственной плоти и крови. Анархист или нет, он почувствует унижение.
Бертран со вздохом кивнул.
Эмма выскользнула на задний двор, потом через калитку в стене выбралась на улицу. Бертран при расчете не вычел стоимость разбитой посуды. Худой, суетливый, он избегал смотреть ей в глаза. Поджал губы и пожелал удачи. От Эммы будто оторвали часть ее существа, жизни, рутины, она вдруг попала в водоворот сновавшей по улицам толпы, и никому не было дела до ее несчастья. Увернувшись от повозки, которую тащил хромой мул, она влилась в людской поток и понемногу удалилась от столовой. Все ей казалось чужим, враждебным. Она возвращалась домой в неурочный час. Что ей делать там взаперти? Дядя Себастьян, наверное, спит после ночной смены на скотобойне. Она задрожала при одной мысли о том, что придется объяснить дяде и кузенам, откуда взялись эти рисунки. Роса знала, ей она рассказала, ведь если делишь с кем-то небольшую кровать, это располагает к доверию и интимным излияниям. Представив, как дядя и кузены разглядывают ее наготу, она покрылась холодным потом. Зачем?! Зачем?! Зачем Далмау их продал? Неужели настолько возненавидел ее? Она остановилась посреди улицы, сжала кулаки, крепко, так что ногти вонзились в ладони. «Негодяй!» – проговорила она сквозь зубы. Шедшим позади приходилось огибать ее. На этой самой улице, может быть, на другой, поблизости, Далмау преследовал ее, просил прощения. Может быть, думал, что так легко простить удар кулаком, который она от него схлопотала? Нет, ни за что, даже если учесть, что он в тот вечер был в стельку пьян. И потом, Монсеррат. Она не могла отделаться от чувства вины, и по ночам ее преследовало видение: баррикада, голова подруги, развороченная пулями. Но Далмау не желал брать на себя ни малейшей ответственности, хотя именно он запустил конфликт, попросив ее заменить подругу на уроках катехизиса. «Предательница!» – именно поэтому выкрикнула Монсеррат перед смертью. Далмау должен был передумать, исправиться, умолять тысячу и один раз, чтобы получить прощение, а он вместо этого пропал, сделав несколько попыток; не упорствовал. И теперь рисунки. Эмма не понимала, как они очутились в борделе. Люди видели ее нагой, вожделеющей, сладострастной. Она помнила каждый из сеансов рисования: любовь, страсть, наслаждение… Она шла, погруженная в эти мысли, со слезами на глазах, и вдруг обнаружила себя в нескольких шагах от решетки, окружающей фабрику изразцов. Пыталась вспомнить, не задумала ли она в какой-то момент нарочно прийти сюда, и решила, что нет.
Далмау нет на месте, объявил беззубый старик. Спросил, зачем она хочет его видеть. Зачем, повторила она про себя. Чтобы плюнуть ему под ноги. Расцарапать морду, дать с ноги по яйцам. Да не раз!
– Просто так, – сказала она вслух. – Не беспокойтесь.
– Они с учителем готовят выставку. Говорят, получилось очень хорошо, и… – (Но Эмма уже отошла от решетки.) – Хочешь, скажу, что ты приходила? Как тебя звать?
Эмма несколько мгновений поколебалась, стоя спиной к старику, и наконец ответила, не повернув головы:
– Не надо, не утруждайтесь. Он меня не знает. Я приду потом.
И она направилась к Сан-Антони через те же пустыри, по тем же немощеным улицам без тротуаров, вдоль которых выстроились убогие домишки в два-три этажа, мастерские и фермы, где держали молочных коров, коз или ослиц; по тем же переулкам, где всегда ходила, не очень-то глядя по сторонам.
– Козел, – вдруг пробормотала она вне себя, остановившись перед какой-то молочной фермой. – Козел, – повторила громче. – Козел! – возопила в самые небеса, стоя посреди улицы. – Козел!
Скотница обернулась на эти крики, неодобрительно фыркнула, когда корова, которую она доила, заволновалась и стала брыкаться. Две женщины в черном зашептались, указывая на Эмму, а позади них, спрятавшись между домами, за бельем, развешенным сушиться, всякой утварью и грудами мусора, Маравильяс и ее брат Дельфин обменялись заговорщическими взглядами. Делов-то – выкрасть из мастерской Далмау рисунки, изображавшие девушку, которую Маравильяс узнала, как только увидела в столовой. У Далмау в мастерской был полный кавардак, а рисуя trinxeraires, он доходил до такой степени сосредоточения, что, если не считать бумаги, уголька и пастелей, которые он держал в руках, Маравильяс могла стащить у него что угодно: башмак с ноги или рубашку с тела.
Продать их в бордель Хуаны оказалось еще проще. Бандерша, как и следовало ожидать при ее ремесле, не отличалась культурой и утонченным вкусом, однако же она рассматривала рисунки с почтением, будто открывала в них что-то, помимо сладострастия, какое призваны были возбуждать снимки голых женщин, вошедшие в моду после распространения фотографии. Но от почтения цена не стала выше, как их в том уверил Бенито, trinxeraire, который и рассказал о том, как странно глядела шлюха на эти картинки; ему Маравильяс поручила миссию продажи рисунков.
– Почему он, а не ты или я? – заныл братец.
– Не надо Далмау знать, что это сделали мы.
– Почему?
– Далмау нам доверяет. Может, даже привязался к нам. Разве ты сам не видишь? Покупает нам еду с тележки, время от времени дает несколько сентимо. Он злится на девчонку, это в глаза бросается, и все-таки в нее влюблен. Иначе не стал бы за ней шпионить. А если они помирятся, мы станем лишними, так и знай.
– А. – Дельфин задумался на несколько мгновений. – А что, если Далмау встретит Бенито и тот расскажет, что его подрядили мы?
Девочка резко взмахнула рукой, отметая все сомнения.
– Что Бенито встретит, так это смерть свою, кашляет сильно и на каждом шагу кровью харкает.
Маравильяс двинулась было за Эммой, которая, громко обругав Далмау и плюнув под ноги скотнице, продолжила путь, удаляясь вниз по улице.
– Пусть себе идет, – предложил Дельфин.
Но Маравильяс не собиралась пускать дело на самотек. Она хотела знать, что будет с девушкой дальше. Когда-нибудь это ей пригодится… на пользу или во вред Далмау.
Дядя Себастьян уже знал: он ходил обедать в «Ка Бертран» после того, как Эмму выгнали, и гнев его распалялся по мере того, как он дома дожидался ее прихода. Эмма застала его в бешенстве, в буйстве, возможно, в подпитии, на что указывала наполовину опорожненная бутылка анисовки на столе и запах перегара, который девушка почувствовала при первых дядиных словах.
– Что ты натворила, несчастная? – зарычал Себастьян. Эмма отступила к входной двери. Дядя двинулся следом, кричал, брызгая слюной и алкоголем. – Все кому не лень тебя видели голой! Мокрощелка! Шлюха! Так я тебя воспитал? Что бы сказал твой отец, будь он жив?
Эмма стукнулась спиной о закрытую дверь. Дядя Себастьян чуть не столкнулся с ней нос к носу, от запаха перегара и пота ей стало дурно. Она слышала и ощущала на лице его горячее дыхание. Они были дома одни, кузены еще не пришли с работы. Сейчас он ударит ее. Эмма задрожала, закрыла глаза, боясь, что дядя, во власти гнева и алкоголя, ее изнасилует, но крики стихли. Секунды шли, а она все не решалась взглянуть на дядю. Не могла сдержать коварную дрожь в коленях. Еще немного, и она упала бы, но внезапно по всему дому прогремел удар: это дядя Себастьян грохнул кулаком по двери. Эмма соскользнула на пол. Дядя двинул по двери ногой, совсем рядом с нею: еще и еще раз. Девушка слышала, как трещит пробитая филенка, и все сильнее съеживалась. Дядя вернулся к столу и налил себе рюмку анисовки.
Эмма так и сидела под дверью, скорчившись, прижав колени к груди. Оттуда увидела, как дядя опрокидывает рюмку одним глотком и наливает следующую.
– Завтра подыщу тебе хорошего мужика, готового забыть об этих рисунках и не поминать твое бесстыдство, и ты выйдешь за него замуж. Нелегко найти такого, кто примет с легким сердцем, что его жену видела и желала половина мужчин Барселоны, но, кажется, есть у меня один на примете…
– Нет, – услышала себя Эмма как бы со стороны. – Я ни за кого не выйду замуж.
Себастьян взял рюмку, но отпил всего один глоток, что необъяснимым образом успокоило Эмму.
– Мне следовало бы задать тебе трепку, – пригрозил дядя, – но я обещал брату, что, коли это будет в моих силах, тебя никто и пальцем не тронет, включая меня, конечно. Раз ты не желаешь мне подчиниться, тебе придется покинуть этот дом. Ты достаточно взрослая, и я могу считать себя свободным от обещания, данного твоему отцу.
После такой речи, весьма пространной для забойщика скота, дядя рухнул на один из стульев, стоявших вокруг стола.
– Не беспокойтесь, я прямо завтра… – начала Эмма.
– Не завтра. Сегодня. Сейчас.
– Но Роса… и кузены… – бормотала Эмма. – Мне хотелось бы попрощаться.
– Дождись их на улице и прощайся там.
Эмма принесла с собой узелок со скудными пожитками, какие забрала из столовой: миска, столовый прибор, пара передников, салфетка. Теперь нужно было собирать вещи в доме, который она считала родным со времени гибели отца. Одежда. Цветастое платье, выкройку для которого ей принесла Монсеррат. Пара башмаков и ее детские портреты, которые нарисовал Далмау. Эмма все их разорвала. От родителей ей остались только исцарапанные очки и самопишущая ручка с золотым колпачком, которая принадлежала отцу и которую Эмма хранила, как величайшее сокровище. Лучше ее с собой не брать.
– Будьте добры, сохраните ее для меня, дядя, – уже с узелком на плече попросила она, кладя ручку на стол. – Надеюсь, когда-нибудь я вернусь за ней, а если нет, пусть достанется старшему из братьев, – добавила она. Дядя хранил молчание. – Спасибо за все, – заключила она. – Я понимаю ваше решение и хочу, чтобы вы это знали.
Эмма нагнулась, чтобы поцеловать его в макушку, как делала не раз. Себастьян отстранился.
– Мне жаль, – повторила Эмма, направляясь к двери.
– Если я не выдам тебя замуж и не выгоню тебя и если ты не появишься на людях с физиономией, разбитой в лепешку, – услышала она, уже стоя на пороге, – люди подумают, что моя Роса такая же потаскуха, как и ты. А этого я ни за что не допущу.